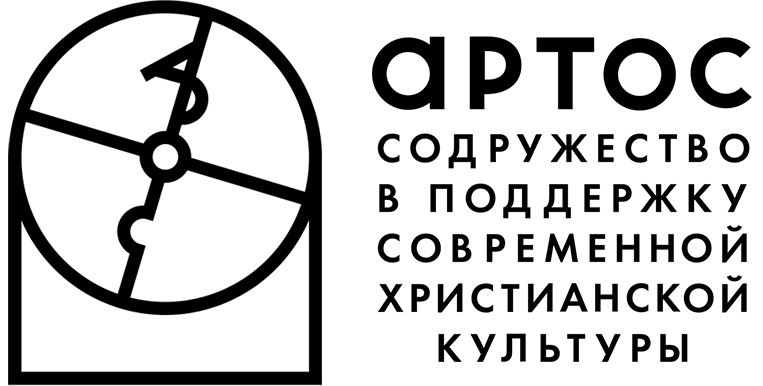Рецензия протоиерея Георгия Ашкова на книгу доцента СПбДА священника Михаила Легеева «Богословие истории как наука. Опыт исследования».
Церковное учение гласит, что великий Промысел Божий о мире раскрывается нам в Священном Писании и Священном Предании Церкви. Осознанный подход к Преданию может быть результатом духовного опыта и богословского знания, а может быть результатом позиции или даже убеждения, оправданного определенной необходимостью, как у членов синедриона, осудивших Христа. Бывает, что эти два подхода образуют парадоксальный симбиоз, например, союз бюрократической властной системы и науки. Конечно, любая церковная власть сегодня нуждается в теологии и теологах. К сожалению, современный епископат православной Церкви перегружен вопросами администрирования, финансов, политики, поэтому среди епископов очень мало не то что крупных богословов, но и в принципе тех, кто хоть как-то интересуется богословием. Поэтому мы можем смело сказать, что нынешняя власть Церкви нуждается в богословах, которые в идеале должны давать теологическую экспертизу по ряду проблемных тем и явлений современной церковной жизни. Однако бывает так, что власть интересует не честная оценка, не решение проблем, обычно этот интерес выражен в необходимости оправдания господствующей доктрины, уже сформированной позиции власти или поддержка нового проекта.
Современная секулярная историческая наука во всех ее областях и отраслях со времени Просвещения приняла господствующую идею роста, развития, эволюции, прогресса и законы диалектики как ключ к пониманию истории и любого движения в мире и человеческой цивилизации. Безусловно, сама идея роста – великая идея и глупо будет ее отрицать. Однако концепции исторического развития (линейная, циклическая или взаимосвязанная) особенно в упрощенном виде представляют любое движение истории исключительно как движение от простого к сложному, от примитивного к более совершенному, от дикого к культурному и так далее. Идея эволюции и прогресса предполагает постепенные возвышения и революционные скачки, но главное все время вверх по отношению к предыдущему, причем качественные изменения оправданы самим развитием. И даже если случаются падения, отступления, искажения, сам исторический процесс рано или поздно, революционно или эволюционно устраняет регресс и выводит цивилизацию на новый этап. Если в области технического развития прогресс вполне визуален, то в области социального и политического устройства это совсем не явно. Например, доктрина марксизма, опирающаяся на эту теорию, явно проиграла в истории XX века на примере реализации великой утопии социалистического и желаемого коммунистического общества, как нового более совершенного по отношению к капиталистическому. А уж в культурном плане вполне можно отметить, что после падение западной Римской империи под натиском варварских народов потребовалось несколько веков, чтобы эти новые народы, восприняв достижения античной культуры, стали их по-своему развивать. Причем заслуга западной Церкви здесь налицо. Весьма справедливо писал в 1909 г. профессор Троицкий о титанической работе Римской Церкви в эту эпоху по подчинению «церковному игу» неукрощенных и недисциплинированных рас[2]. Несмотря на то, что часть этих народов уже была в орбите империи и даже исповедовала христианство, удивительно, как Церкви, будучи атрибутом старого мира, удалось возвысить свой авторитет так, чтобы покорить себе эти народы. Думается, этот феномен до конца не осмыслен в духовном плане. По крайне мере, если сравнивать похожее положение Церкви в землях восточных славян, то здесь Церкви не удалось сделать то же самое по отношению к народам Золотой Орды – государства, в состав которого вошла часть бывших княжеств Киевской Руси.
Развитие церковной жизни в историческом процессе получило немало оценок историков и религиоведов, часть из них по-прежнему предпочитают смотреть на историю Церкви как на историю любого другого религиозного культа, в данном случае христианского (не Церкви), который безусловно подчиняется всем законам человеческой цивилизации, будучи ее неотъемлемой частью (хотя и здесь при примитивном подходе неизбежно впадение в космологический, антропологический или социальный детерминизм). Можно ли вообще подвергнуть категориям эволюции достижения человеческой культуры? С чем можно сравнить в категориях роста Илиаду Гомера? Или, даже больше, подчиняется ли какой-либо закономерности движение человеческого духа? Неслучайно в европейских языках культура и культ имеют общий корень.
Философия истории достаточно молодая наука, если отсчитывать от Вольтера. Ее зарождение в эпоху Просвещения парадоксально обязано теологическому рационализму схоластического богословия, исключающего внимание к вопросам истории, считая последнюю законченной с пришествием Христа, делившего историю на сакральную и профанную и отводившего наукам истории и философии вспомогательные и дополнительные области. Но как бы ни отрекались специалисты историософии от богословия при философском постижении истории, постижении высшего ее значения, невозможно игнорировать библейскую концепцию и христианское богословие, интерпретацию истории как процесс, имеющий начало и конец и свою цель, как историю спасения. Поэтому по-настоящему богословие истории вступает на арену только в XX веке в трудах знаменитых и католических богословов – Анри де Любака, Жана Даниэлу, Ханса Урса фон Бальтазар, и протестантских – Рудольфа Бультмана, Оскара Кульмана, Эрнста Трельча, Карла Левита (работы этих авторов весьма известны и переведены на многие европейские языки). Православные пастыри и богословы XX века тоже пытались осмыслить историю, в первую очередь, это представители русской эмиграции – Сергий Булгаков, Георгий Флоровский, Антон Карташев, Василий Зеньковский, Василий Кривошеин, Николай и Владимир Лосские, Софроний Сахаров, Александр Шмеман, Николай Афанасьев и, конечно, Иоанн Мейендорф. И хотя многие работы нельзя определить строго как историософские, философские и богословские оценки различных исторических реалий рассыпаны во многих работах этих авторов. Великий труд о. Георгия Флоровского «Пути русского богословия» как раз и является примером богословия истории в определенной области. Труды же о. Иоанна Мейендорфа уже названы современной критикой исторической теологией. Будучи христианами, а не просто религиоведами, православные мыслители, конечно же, признают сакральный характер истории, отмечая пришествие Христа как эсхатологический ключ истории мира. Но история не завершается на Голгофе, напротив, с пришествием Христа время получает прочное основание, человеческая деятельность – оправдание и цель, история – перспективу и смысл, спасение имеет исторический аспект, оно совершается в медленном течении человеческой истории, истории Церкви. Следовательно, признавая за Церковью историческое значение, богословский взгляд на историю невозможен без восстановления целостного учения о самой Церкви. Однако никто из блестящих представителей русской эмиграции не сделал попытку систематизации. Крупного труда русских богословов в области богословия истории в XX веке мы не получили.
В этом смысле весьма знаменательным и долгожданным событием можно считать появление в современном академическом богословии монографии доцента кафедры богословия Санкт-Петербургской Академии кандидата богословия отца Михаила Легеева: «Богословие истории как наука. Опыт исследования» (2019)[1]. Нужно отдать должное такой благородной попытке, наконец-то кто-то решился! Автор известен в академических кругах Московского патриархата множеством публикаций статей, докладов, учебником по патрологии, а также предшествующей работой «Богословие истории и актуальные проблемы экклезиологии», которая легла в основу новой монографии. Собственно, как пишет сам автор во вступлении, новая монография есть итоговый результат его работы.
Конечно, заслуживает уважения сама попытка о. Михаила Легеева фактически сделать переход от краткого и фрагментарного изложения богословия истории в статьях и очерках предшественников к некому синтезу, поэтому вся работа Легеева – это, в первую очередь, претензия на фундаментальность и масштаб, во вторую, – претензия на создание новой академической дисциплины по всем законам гуманитарной науки с определением области, методологии и систематизации.
Рамки статьи не позволяют дать оценку каждому аспекту этой весьма объемной работы, я попытаюсь проследить основные мысли автора по двум направлениям: осмысление истории и экклезиологическая модель Церкви.
На первый взгляд вполне законно для фундаментального труда желание автора представить обширность вопросов своего предмета, включая осмысление не только исторических процессов, но и научного знания, педагогики, технического прогресса, а также обзор злободневных тем, таких как история экуменического движения или история практики причащения. Автор уверен, что концепция богословия истории не может ограничиться «вниманием к макропроцессам», поэтому сквозной темой монографии становится «синергийный диалог Бога и человека», протекающий в истории; в то же время о. Михаил законно обосновывает «теснейшую связь богословия истории с экклезиологией»[3].
Заметим еще один важный акцент этой работы: она представляет собой полемическое сочинение, в котором для критики выбраны богословы XX века, преимущественно приверженцы евхаристической экклезиологии, многие из которых являются представителями русской эмиграции.
Можно сказать, что Легеев, желая представить Предание как единое целое, применяет патрологический принцип в своем обзоре, начиная с библейских текстов, включая Откровение святого Иоанна. Далее через отцов древней Церкви и последующих доходит вплоть до богословов XX века, показывая, как формировалась проблематика богословия истории у того ил иного отца или учителя Церкви, выбирая при этом необходимое зерно для своей концепции (ниже обратим особое внимание на этот выбор). Таким образом построена первая часть сочинения. Пусть так, но лично мои ожидания от претензии на фундаментальность и научную дисциплину (!) предполагали увидеть вначале хоть какой-то обзор тем, поднятых представителями западного богословия, о которых сам автор упоминает в введении. Этого в монографии очень мало, кроме двух абзацев в главе «Историзм Библии», где петербургский богослов, упоминая заслуги западных исследователей в выявлении историко-богословской проблематики и возможности их адаптации православным богословием, справедливо указывает на превалирование исторической критики над богословским анализом, особенно в исследовании библейских текстов. К сожалению, ветхозаветная часть представлена у Легеева очень скупо, именно в плане ветхозаветного бытия Церкви, нет оценки Заветов (Ной, Аврааам, Моисей), нет никакого видения глобальных исторических переломов, например, таких как потоп, вавилонское столпотворение[4]. И конечно, хотелось бы все же прочитать критику тех религиоведов, которые в своей исходной предпосылке отрицают древность и историчность Ветхого Завета (я имею ввиду, представителей научного течения называющих ветхозаветную религию как «Яхвизм»).
Я не зря отметил выбранные автором темы. Выбраны хилиазм Древней Церкви, учение о Предании, идея духовного возрастания человека в недрах Церкви и самой Церкви у Климента Александрийского, эпохальность истории у Оригена, концепция двух градов у блаженного Августина, синергийный процесс у Евагрия Понтийского и Максима Исповедника, богословие Симеона Нового богослова, богословие таинств Николая Кавасилы. Согласимся с автором небольшого предисловия к этому сочинению, что отец Михаил «представляет учение о Церкви в совершенно ином разрезе», как неразрывную связь антропологии и истории Церкви (человек в Церкви)[5]. Однако даже в этом «ином разрезе» в заявленной «проблеме периодизации» и попытке анализа «жизни Церкви в истории как двигателе экклезиологической проблематики» мы видим лишь краткий очерк. Отмечены следующие «переломные моменты для экклизиологии»: раскол 1054 г., падение Константинополя 1453 г., с которого начинается период, названый автором «эпохой утраченной экумены», потом как переход следует движение колливадов в XVIII веке, и в завершение в конце XIX в. произошел «скачок», который вылился в грандиозный всплеск, «своеобразный большой взрыв» экклезиологической мысли богословия XX века, окончательной причиной которому послужил критический момент – «потеря воцерковленной государственности, разрушение Святой Руси»[6].
Сразу встают вопросы. Что это?! Неужели все?! И почему именно такой выбор поворотных вех в экклезиологии в работе, претендующей на фундаментальность и академичность?! Где рефлексия на основные вехи истории Церкви? Где проблематика иудеохристианства (борьба за истинный Израиль)? Где экклезиологическое напряжение Игнатия Антиохийского? Где богословская оценка эпохи борьбы с гностицизмом, эпохи начала столкновения библейского и античного менталитетов? Где начало перемен соборного принципа Церкви в III веке? И главное, за бортом монографии остается весь масштабный процесс христианизации Римской империи, кроме самой общей оценки – «рассвет» (!). От себя отмечу, при оценке грандиозной работы Церкви по воцерковлению античной культуры нельзя игнорировать и встречный процесс адаптации основного содержания иудео-христианского мировоззрения и бытия Новозаветной Церкви в мире в основных категориях и законах греко-римской цивилизации. Ученые обычно называют этот процесс эллинизацией христианства, я хочу уточнить: эллинизация христианского учения и ромеизация церковной структуры.
И где осмысление византийской цивилизации? Ведь существует огромная критическая литература об этом, в том числе в лоне русского богословия, и особо в работах русской эмиграции. Мнения и позиции порой неоднозначные, но ведь именно здесь можно найти оценки серьезных экклезиологических перемен, отразившиеся в литургическом предании, в экклезиологической концепции, в ее воплощении в конкретном церковном устройстве, и главное, в отношениях Церкви и мира, последствия которых мы переживаем до сих пор.
Темы церковных расколов, «любых» даже самых масштабных, наподобие монофизитского, Легеев относит к периферийным, «маргинальным», ибо они не разделили мир «на два ядра». Легеев обозначает в двух разделах тему, определенную им как «антипредание», но не разворачивает ее сугубо на конкретных примерах, поэтому непонятно, куда отнести тех же монофизитов и несториан. Замечу снова, как раз богословие XX века сделало серьезную попытку осмыслить как историю этих первых серьезных расколов, так и нынешнее существование этих Церквей. Католической и протестантским Церквам автор уделяет одну страницу, где нет ни богословского анализа великого раскола на Запад и Восток с его явным экклезиологическим контекстом, ни оценки Реформации, которая протоптала путь гуманизму, ни чего-то нового существенного или даже старого по вопросу папизма, цезарепапизма или папоцезаризма, ни значительной критики экклезиологических доктрин Запада, игнорировано крупное событие – II Ватиканский собор.
То же и в темах истории самой Православной Церкви, мало оценок исихастского движения, зато как существенное выделено движение колливадов; последнее, конечно, весьма похвально. Автор целиком сосредотачивается на темах эпохи, названной им «эпохой утраченной экумены», где он видит начало расхождения путей Константинопольской и Русской Церквей. В русской тематике в качестве предыстории вопроса указано значение Иллариона Киевского, и представлен спор «стяжателей» и «нестяжателей» и экклезиологическая доктрина «Москва – Третий Рим» в рамках названной Легеевым темы «экклезиология общинного бытия». Игнорирована проблема богословия («Русь крещена, но не просвещена») и вытекающий из нее вопрос последующего «западного пленения» русского богословия. В принципе, игнорирована вся тема Петровских реформ, напрямую касающихся Церкви, поэтому нет богословского осмысления синодального периода Православной Церкви в Российской империи, и нет оценки спора западников и славянофилов. И наконец нет, совсем нет, совсем не представлена эпоха подготовки и проведения Всероссийского Московского Собора 1917-18 гг., которая как раз обнажила глобальные экклезиологические проблемы. Выделяя как существенное церковно-государственные отношения, автор почему-то не стал анализировать эти отношения в XX веке, а здесь есть серьезный материал (Церковь и режимы нацистов и коммунистов).
Что это? Почему все это пропущено? – опять спросим автора. Для него это несущественно или есть какая-то сознательная причина не давать богословские оценки этим историческим событиям? Что это за совершенно «иной разрез» в осмыслении истории Церкви? И главное, с нетерпением ждешь, когда же начнется раскрытие главного предмета богословия истории: антиномии эсхатологии и истории в конкретных исторических событиях, чему как раз посвятили свои оценки историки и богословы XX века, но этого нет. Отец Михаил знает эти оценки, например, он сам несколько раз отмечает историзм богословия отца Иоанна Мейендорфа и его «попытку примирения» двух направлений богословской мысли XX века – неопатристического синтеза и евхаристической экклезиологии. Причем сама постановка вопроса сформулирована им, Легеев несколько раз указывает на эту антиномию[7], но в дальнейшем его концепция теряет эту мысль. Особо это видно в оценках периодизации церковной истории, последнюю приходится ждать полкниги. Вообще принцип составления содержания монографии смущает, слишком много тем повторяется в разных разделах, конечно в соответствующих акцентах, но из-за этого теряется целостность.
Принцип и выбор тем можно понять только исходя из придуманной автором концепции. Вопрос периодизации тоже возникает несколько раз, но когда наконец «находишь концы», а точнее начало, откуда он исходит, становится скучно и грустно. Конечно, большинство историков не отрицают самого принципа макропериодизации, но у отца Михаила Легеевавсе привязано к историософской концепции инока Филофея, поэтому приведем цитату целиком:
«Три Рима представляют собой ничто иное как символ трех эпох, три знака истории христианского мира:
- Эпоху Древней Церкви (I-III вв.)
- Эпоху Вселенских Соборов (IV-VIII вв.)
- Эпоху утраченной экумены (IX-XIV вв. и особенно, начиная с сер. XV в., и далее – до окончания мира).
Жизнь «трех Римов», эти три эпохи, обнимают собой всю историю христианского мира, прошлую, настоящую и будущую»[8].
Ссылаясь на ответ Константинопольского патриарха Иеремии царю Феодору Иоанновичу и британского историка-медиевиста Стивена Рансимена, Легеев уверяет, что греки признали такую периодизацию, хотя видели ее смысл с другой точки зрения[9]. Вот здесь-то уже запахло идеологией, что мы покажем ниже.
Дальнейшее разъяснение периодизации, особенно первых двух периодов, весьма традиционно для многих русских историков XIX века и для современных монархистов: «Эпоха Древней Церкви – время ее младенчества, роста и особых трудов», «Эпоха Вселенских соборов – время исторического расцвета Церкви, созерцательной полноты, ее вселенского («экуменического») доминирования в мире», византийского воцерковления экумены; симфония империи и Церкви представлена автором как торжество Церкви, где само государство в определенном смысле становится Церковью, выполняя при этом роль «удерживающего»; путь воцерковленного социума («государства как Церкви») продолжился после падения Византии в Московском царстве и Российской империи[10].
Последующую эпоху («утраченной экумены») отец Михаил характеризует как «время вызревающего и нарастающего христоподобного кенозиса Церкви, видимого умаления перед лицом мира», которую завершит «второе славное пришествие Христово по окончании исторического кенозиса Церкви»[11].
Известно, что большинство представителей сакраментальной экклезиологии видят «золотой век» Церкви в доникейской эпохе (до IV века), а не в эпохе «Вселенских соборов». В чем-то весьма традиционный и спорящий со своим учеником о. Александром Шмеманом, историк-эмигрант Антон Карташев, как раз упрекая последнего в чрезмерной критике Византийского периода, сам указывает на эсхатологичскую проблематику и признает: «В союзе с государством Церковь инстинктивно скрывала свой изначальный пророчески огненный эсхатологический критицизм в отношении к мировой культуре, государству и нации»[12]. Обратимся к протопресвитеру Иоанну Мейендорфу, который лучше всех формулирует богословский подход, призывая при обсуждении исторического развития Церкви применить эсхатологические критерии[13]. Именно с таким подходом он судит византийский идеал, показывая по сути его утопизм, изъян – считать гармонию уже осуществлённой[14]. Богословы русской эмиграции выявляют антиномию эсхатологии и истории на всем протяжении истории, но именно акцент на эсхатологический аспект в трудах Афанасьева и его последователей, по мнению Легеева, лишает Церковь «внутреннего историзма».
Доцент Михаил Легеев признает, что Священное Писание (Флп. 2, 7-8) и христианское богословие определяют кенозис Сына Божия как весь процесс домостроительства, весь период от Боговоплощения до Крестной Жертвы, но сам богослов сознательно переносит всю эсхатологию (кенозис Церкви) исключительно в последнюю часть своей периодизации, в период «утраченной экумены», по этому же принципу он определяет «Голгофу целых поместных Церквей (Константинопольской – 1453, Русской — 1917). Но ведь Голгофа Церкви была явлена не раз в период Древней Церкви, Новозаветная Церковь начала свое крестоношение сразу со Дня Пятидесятницы, что продолжается по сей день. Практически не представленное Легеевым монашество — это тоже кенозис Церкви, «мученики без огня и меча» (об этом много написано Болотовым, Флоровским, Шмеманом, Мейендорфом). Первые монахи уходили из мира как раз потому, что видели обмирщение (секуляризацию) самой Церкви в союзе с империей, их не пугали апокалиптические предчувствия, вызванные нашествием варваров на Западе, и их не утешали успехи христианизации империи на Востоке, они хотели жить по евангельским эсхатологическим идеалам. В мире будете иметь скорбь (Ин. 16, 33), вот почему Легеев ошибается в своей оценке идеализации торжества имперского (государственного) христианства, будь оно византийское или московское. «Христианскую веру нельзя оценивать лишь в пределах общественных успехов и неудач. В Новом Завете не дается обещаний земного успеха последователям Христа»[15]. Дух Божий действует в жизни человека и Церкви вопреки отсутствию каких-либо благоприятных условий (2 Кор. 12, 9).
Именно идеал «воцерковленной государственности» подвергался серьезным критическим оценкам многих мыслителей XX века. Как гласит известная пословица, дорога в ад вымощена благими намерениями. Отказавшись от огненного эсхатологического устремления Древней Церкви, имперская Церковь с IV века пыталась строить некое подобие Царства Божьего на земле. Пути Запада и Востока в средневековье разошлись лишь в методах, Западная Церковь для осуществления этой цели считала необходимым взять власть над миром, на Востоке же Церковь рассчитывала на само государство. И какой результат? Легеев, между прочим, сам того не ведая, затрагивает отчасти эту тему – тему результата, но совсем отдельно, фрагментарно в главе «Научно-техническое развитие». Автор очень даже правильно начинает эту главу с двух путей, обозначенных еще в первой книге Библии: путь Авеля, как стремление вернуться к Богу, и путь Каина, как желание строить автономный мир без Бога. Отец Михаил, описывая научно-техническое развитие социума, пишет о появлении «секулярного сознания оторванного от Бога», о «разрушении иерархии наук», о «нарастании апостасийных процессов»[16]. Мы знаем, что грехопадение Адама – причина того, что творческое и нравственное начала разошлись в человеке. Но в том то и дело, что дух Каина вновь воскресает внутри самой Церкви! И гуманизм с его устремлением к окончательной автономии человека от Бога и желанием раскрыть могучие творческие силы самого человека (что и привело к технической революции), и современный секуляризм, как следствие гуманизма, и социальные утопии XX в. (коммунизм, нацизм), и нынешний глобализм, грозно напоминающий Вавилон апокалипсиса, – все это продукты предшествующей христианской цивилизации. В том числе и результат глобальных богословских ошибок средневековых концепций воцерковления мира. Буржуазный строй пришел на смену феодальному, вера в прогресс вытеснила веру в Бога, но не стоит удивляться. Буржуазный дух всегда побеждает, когда христиане принимают по ошибке земной град за Небесный, когда перестают ощущать себя странниками на земле[17]. Всего этого нет в «Богословии истории» доцента Михаила Легеева, даже если он и не согласен с такими оценками. Где критика?
В главах о свободе человека говорится о «грандиозной битве двух свобод»: Бога и человека, но я не нахожу у Легеева критики рационализма и того «трагического отсутствия богословия зла», богословия «о лукавом духе» в современной теологии, что бесспорно является следствием объявленной демифологизации библейских текстов[18]. У митрополита Антония Сурожского можно найти более правильный взгляд, он говорит о битве за мир не двух воль, а трех: воли Божьей, премудрой, свободной, всемогущей и полной любви, воли сатаны и сил тьмы, всегда злой, но не имеющей власти над человеком, и воли самого человека, наделенного Богом великой свободой выбора между Богом и лукавым[19]. В проповеди и богословии нам всегда важно сделать ударение на том, что Христос отнял силу у начальства и властей, то есть у лукавых духов (Кол. 2, 15), Он и нас зовет к духовной брани, а не к социальной революции в мире с целью сделать его Царством Божьим. Но это последнее как раз и противоречит концепции автора нового академической дисциплины.
Михаил Легеев ищет логику истории, которая безусловно требует своего богословского объяснения, тем более как объяснить утрату Церковью всех своих исторических побед, и автор представляет свою находку так: «Церкви надлежит особым образом повторить весь путь земной жизни Христа»[20]. Таким «особым образом» вводится закономерностьисторического развития и утверждается ее универсальность, причем понятие «закономерности» слишком часто употребляется автором, да так, что духовная брань, реальность свободы и реальность зла как будто теряют свою остроту[21]. Настораживает здесь даже не сама историческая перспектива, а ее идеализация и формализация без большого скрупулезного анализа конкретных исторических процессов и событий[22]. Напомним предупреждение каждому историку от о. Георгия Флоровского и о. Николая Афанасьева, что история имеет богословский смысл, но она не есть эволюция, история с ее эпохами взлета и упадка, с конкретным ходом реальных событий и их действующими лицами, не укладывается в шаблонные схемы, нельзя ставить концепции a priori над исторической реальностью, выдуманные теории рискуют подменить саму историю «картой истории», ясной, но не имеющей ничего общего с действительностью[23]. И правда, работа о. Михаила весьма и весьма, с каким-то даже азартом или пристрастием, буквально перегружена всякими схемами, пунктуальными перечислениями, таблицами, системами, потому выглядит искусственным построением.
Мне лично совсем непонятна вторая часть названия работы, почему «опыт исследования», при чем тут «исследование»?! Богословие истории – это же не археология, и даже не история, исторические картины уже известны, что тут исследовать? Богословию истории ничего не должно исследовать, оно должно включить механизм осмысления и экзегезы в анализ исторических процессов. Да и нет у Легеева никакого исследования, он настойчиво навязывает нам свою концепцию, под которую выбирает некоторые исторические события в жизни Церкви и интерпретирует их в нужном ему ключе, это явно спекулятивный подход.
Предварим разбор самой экклезиологии Легеева принципиальной позицией отца Иоанна Мейендорфа, который ставит законный вопрос: «Содержит ли апостольский опыт – опыт изначального свидетельства об Иисусе – постоянную и неизменную парадигму для церковных институтов? Не являются ли некоторые из этих институтов лишь продуктом последующей истории, подвластным закономерным изменениям? Другими словами, чем служат они – стражами ли той реальности, что выходит за пределы истории, или выражением самой истории?»[24] И сам же отвечает, что богословие не должно отметать законную идею исторического развития ни формы (формулировок, интерпретации и т. д.), ни глубинного содержания, поэтому «любое историческое изменение должно оцениваться прежде всего по тому, совместимо ли оно с апостольским свидетельством и Преданием, и лишь во вторую очередь – как ответ на требования исторического момента, когда оно происходит»[25]. Задача как экклезиологии, так и богословия истории, раскрыть антиномию между Божественным Откровением и его человеческим восприятием. Иначе, –предупреждает нас отец Иоанна, – упор на непрерывность исторического развития Предания парадоксально сползает в консерватизм[26]. Консерватизм, как известно, порождает бюрократизм управления в любом организме, он всеми силами гасит любое подозрение на критику системы, обнаружение искажений и их исправление. К тому же надо учесть погрешность богословия или точнее его склонность оценивать историю через призму наших нынешних стереотипов или научного предубеждения (которое всегда носит догматический характер), от чего серьезно предупреждали исследователей богословы-эмигранты Флоровский и Афанасьев[27].
Посмотрим, как о. Михаил Легеев представил свое видение экклезиологии. Современный вопрос причастия и подготовки к нему содержательно освящен им в различных исторических условиях и традициях, что важно в отношении подхода, что есть евхаристическое соединение со Христом: результат святости причастника или ее источник[28]. Однако конституционное значение Евхаристии в бытии Церкви здесь не рассматривается.
Можно оценить как интересный сам факт поднятия автором двух тем: попытку применить к экклезиологии «понятийный аппарат» каппадокийцев[29] и попытку раскрыть антиномию личного и сакраментального.
Эти темы весьма актуальны, они уже давно в дискуссии, вот уже третье столетие экклезиология в центре внимания богословия. Настойчивая попытка установить терминологию имеет у петербургского богослова одну особенность, что сразу останавливает интерес и опять чрезвычайно настораживает: отец Михаил часто использует термин «экклезиологический догмат» или «догмат о Церкви», причем сам он претендует на точность «понятийного аппарата»[30]. Действительно, отец Михаил не единственный и не первый, кто употребляет эту терминологию, ее можно найти, например, у владыки Антония (Храповицкого) «Нравственная идея догмата Церкви»[31]. Но вся проблема в том-то и заключается, что Церковь описана отцами (то, что богословие называет «свойствами»), но догмата о самой Церкви они нам не оставили! Некоторые считают, что догмат не сформирован, так как история Церкви не знала экклезиологической ереси. Другие пытаются все же определить этот догмат. И Легеев двигается в этом же направлении, намекая, что экклезиологическая проблема, выраженная в отношениях Московского и Константинопольского патриархатов, обусловлена, по его мнению, не только каноническим нарушениями последнего, но также и его последовательной «догматической позицией», которая требует опровержения[32]. А возможен ли в принципе догмат о самой Церкви? Определить – значит поставить границы, ведь догмат — это граница, потому у нас такие трудности с определением Церкви. Вопрос границ Церкви один из наиболее проблемных в экклезиологии, уже целое столетие он является предметом напряженной работы богословов в рамках экуменического движения, потому я не касаюсь страниц этой монографии о границах Церкви.
Вторая тема – раскрытие антиномии личного и сакраментального в Церкви – назрела тоже давно, и Легеев прав, указывая на два направления богословской мысли ХХ века: неопатристический синтез, с его особым вниманием к восточно-христианской мистике (паламизм), и экклезиология (правда, было и третье направление – попытка философского синтеза). На практике, особенно при примитивном подходе, порой мы можем встретить однобокие позиции, либо акцент на путь обожения через мистическую практику исихазма, что фактически ставит под сомнение необходимость церковных таинств; либо только мистическое соединение с Богом в таинствах, только таинства, точнее даже самодостаточность одной Евхаристии. Я лично хочу отметить одно совсем небольшое катехизаторское сочинение знаменитого архиепископа Павла (Олмари), бывшего некогда главой Финской автономной Церкви: «Как мы веруем»[33]. С одной стороны, владыка Павел – монах Валаамского монастыря, и, казалось бы, от него следует ожидать акцент на аскетику, но владыка, в то же время явный сторонник евхаристической экклезиологии, придает значение Церкви как евхаристической общине, а следовательно, и евхаристической кинонии, не оставляя при этом внимания к личному молитвенному труду каждого христианина. Я ожидал нечто подобного от отца Михаила. И он начинает «за здравие», когда опирается на богословие Максима Исповедника или Симеона Нового Богослова или преподобного Софрония (Сахарова), чтобы показать путь человека к Богу («малую священную историю отдельного человека»). Но даже в этом «за здравие» опять одна схематизация, так мало живого слова (!), как например, у митрополита Антония (Блюм), к которому апеллирует сам автор, и очень мало о несении Креста. Ухватившись за тезис преп. Иустина Поповича, что «Церковь – это Богочеловек, продолженный во все века»[34], Легеев формулирует: «продолжение Христа в своих членах и составляет исторический путь Церкви»[35]. Пусть так, но заметим, что в отличие от Легеева у Иустина Поповича много места уделено пневматологии, ведь кинонию, как общение верующих с Богом и друг с другом в Церкви, невозможно представить без богословия Духа[36]. И хотя кинонию невозможно свести к чему-то одному, будь то исихазм или таинства, Новозаветная Церковь, рожденная в День Пятидесятницы, будучи сама кинонией, свидетельствует о непреложной апостольской парадигме Церкви, явленой как новой общности – сакраментальной общине, предполагающей в своем историческом существовании определенную структуру. Поэтому представители сакраментальной экклезиологии подчеркивают евхаристическое понимание кинонии, которое осуществляется в местной евхаристической общине.
Как же подступает к критике евхаристической экклезиологии о. Михаил. Да вот как: уже в «Введении» отец Михаил представляет экклезиологическую проблему, выраженную в отношениях Московского и Константинопольского патриархатов, и в сноске, конкретно, конфликт по украинскому вопросу, причем автор уверен, что проблемы экклезиологии, в том числе и украинский кризис, могут быть успешно решены с помощью богословия истории[37]. Вот тут-то и кроется ключ к дальнейшему анализу и выводам всей работы, идеологический подтекст не скрыть. Хотя в одном месте о. Михаил все же отдает должное представителям школы евхаристической экклезиологии, которые подняли проблему Церкви, но приговор однозначен: богословские выводы этой школы названы им, ни больше ни меньше, как «тупиковой ветвью» богословия (!), а сами богословы – «мечтателями», оторванными от реальности, отрицающими бытие Церкви в истории, которые не ищут ответы на исторические вопросы в самой истории[38]. Такой критики еще не знала евхаристическая экклезиология! И самое интересное, что этот вывод стоит не в конце, как обычно, а опережает критику, он заявлен заранее, перед критическим разбором, как некое идеологическое предубеждение.
О кризисе богословия, его комфортном покое в академических кругах и отрыве от богослужения и самой Церкви сказано весьма много и очень строго Шмеманом[39] и Яннарасом[40] , но что изменилось? Без богословия, как совести Церкви, как очистительной самокритики, Церковь рискует неверно интерпретировать Предание, узаконить и абсолютизировать искажения, утвердить спекулятивные доктрины на потребу дня. Именно эта позиция честного богословия, именно эта критика – богословский анализ истории приверженцами евхаристической экклезиологии – страшит Легеева, так как, по его мнению, ставится под сомнение, если и вовсе не перечеркивается, многовековой опыт взаимоотношения Церкви и мира[41]. Поэтому представитель Санкт-Петербургской Духовной Академии заменяет образ распятой Церкви у митрополита Иоанна Зизиуласа на образ земного пути Христа, по Легееву в макромасштабе невозможно сочетать историческое торжество Церкви (будь то Византия или Московская Русь) с кенозисом Церкви[42]. В том-то и вопрос: считать ли торжеством Церкви – имперский период ее истории? Как жизнь отдельного человека, так и путь Церкви не застрахованы от ошибок и падений никакими закономерностями, будь то теория прогресса или любая религиозная концепция, синергийный процесс может дать перекос в человеческом действии. Наш путь совсем не исключает кривизну и искажения, ибо Бог всегда остается верен Завету, а человек нет, не всегда. И если это «нет» выдать за результат исторического развития (а еще хуже – за исполнение Промысла Божьего), то он может оказаться не благим приобретением, а потерей существенного.
Ведь сам же о. Михаил оговаривается, что «история человека как Церкви оказывается антиномичной во всех смыслах», «всякий человек принципиально выше законов и формул»[43]. Согласен на сто процентов! Ведь в принципе, все существенные религиозные истины антиномичны, вся битва человеческой мысли вокруг антиномичных истин заключена в том, что одна группа мыслителей утверждает и защищает одну сторону антиномии, а оппоненты – другую, тринитарные и христологические споры тому пример. Вот две стороны антиномии истории и эсхатологии: Церковь – не от мира сего, но оставлена Богом в мире сем. При однозначном подходе мы рискуем либо совсем вывести Церковь из истории, это может быть сделано духовно (доктринально), либо прямо превратить Церковь в секту, что уже не раз и было и есть. Другая крайность – подчинить Церковь истории, сделать саму историю двигателем и мерилом церковного бытия. Михаил Легеев, делая акцент на историчности Церкви, защищает эту самую «историчность», со всеми ее падениями и ошибками, «закономерностью» исторического пути Церкви по образу земного пути Христа.
Представители сакраментальной экклезиологии, Мейендорф, Шмеман и тем более Зизиулас, не проносят имя Византии «яко зло» и вовсе не отбрасывают историю Церкви с IV или со II века, как это делают, например, радикальные протестантские концепции, особенно представители харизматических направлений. Очистительная самокритика призвана сделать богословский анализ как раз именно «переломных моментов» в бытии Церкви, показывая, где церковное учение сохранило верность апостольскому преданию, а где претерпело искажения, да такие, что изменилась не только форма, но и содержание пострадало. А иной раз бывает, что форма сохраняется, а содержание меняется до обратного. Возможно ли это в Церкви? – Конечно! Нельзя «канонизировать» историю Церкви! Историческое развитие богослужения, догматического учения, церковных институтов – не идеальный процесс развития, восходящий чередою исторической перспективы, прогресс ipso facto (в силу самого факта – лат.). Легеев сам пользуется термином «антипредание», а кроме того православное богословие, опираясь на Евангелие (Мф. 15, 6), использует еще и различение Предания и «человеческих преданий», о чем опять же так много написано богословами Парижской школы. Одна из задач богословия выявить эти «предания человеческие», часть из которых уже исказила экклезиологию, а соответственно и церковное устройство, и невозможно их все оправдать «внутренним историзмом самой Церкви». Как было отмечено о. Иоанном Мейендорфом, эсхатологический критерий необходим для суда над историческим путем Церкви, необходим, чтобы выверить институцию Церкви. Почему отец Иоанн делает акцент на апостольской парадигме церковных институтов? Это вовсе не отказ от развития церковных структур, это не просто консервативность, это сотериология. «Только те церковные «структуры» действительно необходимы, которые имеют эсхатологическое измерение», мы не должны просто ссылаться на практическую надобность востребованную миром[44].
Вывод прост – все в Церкви должно иметь сотериологический смысл и эсхатологическое устремление, и конкретное церковное устройство в первую очередь.
В своей критике евхаристической экклезиологии о. Михаил Легеев сосредотачивается на Афанасьеве и Зизиуласе. Уточним, предпочтительнее называть это направление «сакраментальной экклезиологией», эту терминологию использовали о. Сергий Булгаков и все те же Шмеман и Мейендорф, а сегодня используют многие богословы. Сам Афанасьев не успел систематизировать свои труды, но сакраментальная экклезиология продолжает развиваться во всех аспектах, поэтому лучше употреблять термин «сакраментальная экклезиология», потому что эта экклезиологиякрещальная, евхаристическая, пастырская! И главное, она не была выдумана Афанасьевым, «все новое – это хорошо забытое старое», о чем напоминает нам сам Легеев[45]. Сакраментальная экклезиология – это экклезиология Древней Церкви, та самая апостольская парадигма, попытки изучения которой сделали еще предшественники Афанасьева, как раз в лоне русского богословия XIX века. Легеев, кстати, указывает на «начало оригинального русского богословия», правда относя к нему лишь Филарета Московского, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника и Иоанна Кронштадтского[46]. Опять спросим: где же тогда Хомяков с его учением о соборности? Я не нахожу о. Евгения Аквилонова, который в своей знаменитой и многострадальной диссертации обнаружил забытую и затуманенную схоластикой прямую связь между учением о Церкви и Евхаристией и который первый в православном академическом богословии ввел в научный оборот понятие «богочеловеческий организм Церкви»[47]. Где Василий Экземплярский с его экклезиологическим трудом об иерархии Церкви?[48] В указанных именах XX века есть архиепископ Иларион (Троицкий), но нет митрополита Владимира (Сабодана), а ведь его магистерская диссертация заслуживает внимания экклезиологов[49].
И как я уже указал, Легеев абсолютно игнорирует эпохальный, во всех смыслах экклезиологический, Московский собор 1917-18 гг. и все, что с им связано. Часть Церквей до сих пор следуют его решениям в той или иной мере. Можно понять, почему, например, какой-нибудь румынский или греческий богослов не уделяет этому собору внимание, они просто его не знают. Но почему русский богослов, еще и претендующий на широту и фундаментальность исторических и экллезиологических тем, напрочь его игнорирует, непонятно совсем. Тем более, за последние 30 лет в самой России написаны и изданы добротные монографии об этом. Я вижу в этом молчании автора очень и очень опасную тенденцию русского академического богословия – исключить всю экклезиологическую проблематику, поднятую в эпоху Московского собора 1917-18 гг. и получившую свое развитие в лоне русской эмиграции, в православной Парижской школе богословия, к которой присоединились и другие.
Нет у Легеева осмысления связи между литургическим богословием и экклезиологией, нет никакой рефлексии на литургическое движение в Католической Церкви, что в итоге привело к определенным изменениям экклезиологической концепции на II Ватиканском соборе; нет ничего о связи этого движения с православным богословием, а ведь Афанасьева цитировали на этом соборе. Как можно представить «богословие истории в тесной связи с экклезиологией» без осмысления всего этого?! Следовательно, упрек в «неисторичности» можно вернуть автору.
Кроме вопроса «историчности», другая критика сакраментальной экклезиологии Легеевым уже весьма известна и даже заезжена. Подвержен критике тезис тождественности Церкви и Евхаристии, а следовательно, тождественность Церкви самой себе. Этот тезис окончательно сформулирован Афанасьевым, и его часто употребляли Флоровский, Шмеман, Мейендорф, но он не выдуман ими. Тезис базируется на новозаветном учении о Церкви апостола Павла (Еф. 1, 22-23), в дальнейшем получившем интерпретацию Иринея Лионского (Наше учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия в свою очередь подтверждает наше учение), что вполне известно самому Легееву. И это учение имеет догматическую основу. У нас нет догмата о Церкви, но есть догматическое учение о Евхаристии, которое зафиксировано во всех учебниках догматики[50]. Сам Господь недвусмысленно называет преломленный хлеб своим Телом (Мф. 26, 26-28; 1 Кор. 11, 23-25), этим же словом, Телом Христа, именует апостол Церковь (Еф. 1, 22-23). Догматическое учение гласит что, несмотря на то, что таинство Евхаристии совершается по вертикали времени и по горизонтали географии в бесчисленных местах вселенной, везде истинно и действительно присутствует Один и тот же Христос, Одно Тело Его и Одна Кровь Его. И прелагаются, претворяются святые дары в Тело и Кровь Христа одним и тем же Святым Духом. Все это особо явлено нам в восточном литургическом предании, за каждой литургией предстоятель произносит слова чинопоследования Литургии – «раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый, но не неразделимый, всегда едят Его, но никогда не расточается Он», так же и перед самим причастием звучит известная всем молитва – «Вечери Твоей таинственной, Сын Божий, причастником меня соделай ныне» (специально даю в русском переводе). Раз мы исповедуем, что Плоть Христа едина, как един Сам Христос, и Она полностью пребывает в Евхаристии, и соответственно Церковь, как тело Христа, пребывает в каждом Евхаристическом собрании, и само Евхаристические собрание становится Телом Христовом. Исходя из этого, богословие может утверждать тождественность Церкви и Евхаристии, тождественность Церкви самой себе, и поэтому школа сакраментальной экклезиологии придает ключевое значение Евхаристии как конституции Церкви, и евхаристической общине во главе со своим предстоятелем.
Афанасьева не раз обвиняли в смещении акцента на Местную Церковь в ущерб Универсальной. Легеев тоже пишет об этом, о преобладании в богословии Афанасьева и его соратников «евхаристоцентризма церковной жизни», о смещении кафоличности и «своего рода автокефальности» в сторону каждой местной общины, где совершается Евхаристия[51]. Но ведь Афанасьев исследует экклезиологическую модель Древней Церкви, выше я указал тенденцию современного богословия судить обо всем через призму современных стереотипов. Беда в том, что наша современная экклезиологическая модель отличается и от средневековой модели и тем более от модели Древней Церкви, и то, что мы называем сейчас «Местной Церковью» или «Поместной Церковью» или «Автокефальной Церковью» далеко не совпадает с теми понятиями, которые существовали раньше. Действительно, в Древней Церкви каждая местная Церковь была самостоятельной (хотя тогда не было еще термина «автокефалия»). В Средневековье в каноническом смысле «автокефалия» – это право епархии или митрополии выбирать своего епископа или епископов, за авторитетом патриархов стояло право апелляции к ним по спорным вопросам, и они могли вмешиваться во внутренние дела провинциальных митрополий и утверждать избрание митрополитов[52]. Сегодня «автокефалия» это уже совсем другое, это секулярный юридический термин, о чем мы скажем ниже.
Новозаветная доктрина о Церкви как о Теле Христовом, Евхаристический догмат, тезис евхаристической тождественности Церкви самой себе, конечно, все это камень преткновения для противников сакраментальной экклезиологии. Это мешает и противоречит представлению о Церкви в категориях целого и частей, где структура Церкви на универсальном уровне представляется как совокупность Поместных Церквей, епархий, общин, на чем настаивает Легеев[53], да и многие богословы до него, например, профессор С. Троицкий во многих своих работах. Поэтому Легеев пытается вообще убрать препятствие, для этого он упрекает школу евхаристического богословия в том, что она не смогла перейти «сакраментальный барьер», не сделала «прорыв за богословие таинств» – сама Церковь больше чем таинства, Евхаристией Церковь не ограничивается, требуется «адекватное раскрытие сопряжения устройства Церкви с жизнью Святой Троицы»[54]. По терминологии самого автора, «необходимо отдать безусловное предпочтение «триадологическому контексту». Такое богословие Легеев пытается найти у архимандрита Софрония (Сахарова) и архиепископа Василия (Кривошеина), то есть задача – снять вопрос или перевести его в другую плоскость.
Ну хорошо, дорогой отец Михаил, согласимся, что недостаточно определять Церковь лишь по таинствам. Мы знаем много образов Церкви, Она – Невеста Христа, Столп и утверждение Истины, Тело Христа, Кровь Нового Завета, Трапеза Царства, Путь спасение, народ Божий, Царство Божие, пришедшее в силе Духа, живой храм Святого Духа, можно даже сказать, Церковь – это дом Бога Троицы. Но и этими образами не исчерпать определение Церкви, потому и застывают вопросы границ и догмата о самой Церкви. Однако нам важно определить, какой из этих образов помогает нам лучше понять апостольскую парадигму Церкви, ее конкретное устройство?
И зачем использует автор тактический прием, чтобы показать, будто вся школа сакраментальной экклезиологии остановилась на сакраментальном богословии и «христологическом контексте». Это не так, во-первых, ни Афанасьев, ни Шмеман не успели сделать систематизацию, но связь Церкви с жизнью Святой Троицы есть и у Шмеман[55] и у Мейендорфа[56], и конечно у Зизиуласа[57]. В последнее время также активно обсуждается связь между тринитарным богословием и экклезиологией. Эту связь называют экклезиологией общения, которая, как считает американский богослов о. Джон Бэр, сочетается с евхаристической экклезиологией[58]. Кстати, сам о. Софроний (Сахаров) не был до конца уверен в удачном представлении своей модели Церкви по образу Святой Троицы[59] и консультировался с Флоровским. Последний, как и Шмеман, ответил, что в первую очередь начинать надо с христологии, с Боговоплощения[60]. Эти споры можно даже отложить, но, представляя евхаристическую экклезиологию, нельзя игнорировать попытку систематизации, сделанную протопресвитером Борисом Бобринским – у него-то как раз Церковь представлена во всей многообразности и во всех аспектах и контекстах, а главное, в согласии с Афанасьевым и другими, показано, из чего и как проистекает конкретная историческая структура Церкви[61].
Легеев цитирует тезис о. Иоанна Мейендорфа: «Когда мы говорим, что Церковь кафолична, мы утверждаем свойство или «знак» Церкви, подлежащий осуществлению в личной жизни каждого христианина, в жизни поместной общины или «церкви» и в проявлениях вселенского единства Церкви»[62]. Далее о. Михаил предлагает нам сделать из этого «следующую экклезиологическую модель: «человек как Церковь, община как Церковь, единая и кафолическая Церковь»[63]. И все бы оно было даже интересно, если бы отец Михаил пошел вслед за отцом Иоанном Мейендорфом, который на той же странице, прямо во втором абзаце под своим тезисом пишет: «Православная экклезиология основывается на понимании, что местная христианская община, собранная во имя Христа, возглавляемая епископом и совершающая Евхаристию, является воистину Кафолической Церковью и Телом Христовым, а не «фрагментом» Церкви или только частью Тела. И это так потому, что Церковь кафолична благодаря Христу, а не человеческому своему составу. «Где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь» (Игнатий Богоносец. Послание к Смирнянам 82)»[64]. А вот Легееву недостаточно для определения кафоличности признака, указанного святым Игнатием.
Евхаристическая община во главе со своим предстоятелем – ключевой принцип сакраментальной экклезиологии, так как это и есть конкретная модель (парадигма) Древней Церкви. Для Легеева же община, хоть и «является носителем Христа», но не может быть «совершенным пребывалищем Святого Духа» лишь на том основании, что автор как аксиомуопределяет общину лишь как часть, «а где только часть, там не может быть полноты присутствия Духа»[65]. Эта концептуальная ошибка богослова проистекает из-за того, что в объяснениях структуры Церкви на общинном и кафолическом уровнях у него не определена сама община, автор путается в идентификации соборной жизни Церкви. Легеев критикует Зизиуласа за то, что последний чуть ли не мыслит всю видимую Церковь как одну большую общину[66], но тут же сам указывает, что соборный масштаб общины не важен (!), «от домашней Церкви, семьи, до автокефальной Церкви», «от прихода до Поместной Церкви», «это группа людей, управляемая священной иерархией – епископами, пресвитерами, дьяконами»; причем до конца непонятно, для чего и вокруг чего или кого собирается эта группа людей, главное место отдано иерархии, так как «через всю священную иерархию народ Божий становится и Телом Христовым в таинстве Евхаристии»[67]. «Община со священной иерархией» названа автором «владетелем, распорядителем и преподаятелем таинств Церкви», в других же местах сама иерархия как «превышающий компонент общины» является «носительницей таинств»[68]. Путаница продолжается, в одном месте любую общину от прихода до Поместной Церкви возглавляет епископ; также в сноске Легеев пишет, что «профилирующее положение в этой категории следует отвести общине как таковой, управляемой священной иерархией во главе с епископом», в другом – община возглавляется «первым из епископов»[69]. На кафолическом же уровне: «Главою единой и кафолической Церкви является Христос», «Так же и тело Церкви есть Христос, как и сама Церковь есть Его Тело», причем Тело Христово, «евхаристическое» и «историческое», названо «мерой всякого единения, богопознания и обожения»[70]. Хотя Тело Христово и есть мера всякого единения, общине заведомо как части Легеев отказывает в кафоличности, так как ее обособленности не хватает свойств Церкви[71]. И финал: «В отличие от общины Единая Церковь не представляет собой какой-либо видимой единой иерархии, Ее иерархия есть Святая Троица: Глава Церкви – Христос и сопребывающие Ему Отец и Святой Дух»[72].
Итак, «община» у Легеева не похожа в принципе на христианскую общину, она не евхаристична, экстерриториальна, она может быть какой угодно масштабной, может представлять собой совокупность многих общин и быть даже такой огромной структурой, как нынешняя автокефальная Церковь, например, Московский патриархат, главное, чтобы в ней была иерархия с первым епископом. Возникают вопросы: если масштаб общины не важен, если масштаб общины может быть даже тем, что мы сейчас называем «автокефальной», Поместной Церковью, почему тогда масштаб общины не увеличить сразу до всей Единой Церкви? Если эту масштабную общину (так называемую современную автокефальную Поместную Церковь) возглавляет иерархия во главе с первым епископом, значит оказывается существует какая-то иерархия среди епископов в такой большой общине! Опять спросим Легеева: почему, увеличив масштаб общины до вселенского, не поставить во главе этой архимасштабной общины иерархию во главе с первым епископом? Это очень даже возможно по логике Легеева, раз масштаб общины не важен, границы можно раздвинуть, главное, чтобы она (иерархия) наличествовала. Вот к чему приводит отсутствие евхаристического понимания общины.
Единая Церковь у Легеева это совокупность частей, каждая из которых автокефальная Церковь, но ведь и современная автокефальная Церковь тоже представляет собой совокупность частей (епархий), и епархия тоже поделена на части (приходы), что тоже совокупность. Получается так, что в каждой современной так называемой поместной Церкви, которая по структуре есть совокупность епархий, а епархия есть совокупность приходов, существует иерархическая пирамида наподобие пирамиды власти в Римской Церкви, и завершает ее первый епископ, патриарх, видимый глава. На вселенском же уровне, на котором тоже есть совокупность этих автокефальных совокупностей, почему-то нет ни видимого центра, ни первого епископа, а только невидимо во главе стоит сам Иисус Христос или даже вся Святая Троица. С последовательным применением этой модели опять остается непонятным, почему тогда сам Иисус Христос не стоит невидимо во главе других совокупностей на других уровнях, патриархата или епархии? Неужели Христос есть Пастырь только на вселенском уровне, разве Христос не пребывает в Местной Церкви?[73] Вот к чему приводит концепция Единой Вселенской Церкви в категории частей и целого.
Однако сам о. Михаил Легеев не забыл упомянуть со ссылкой на все того же Игнатия Антиохийского о том, что епископ председательствует на месте Бога[74]. Только забыл указать, что это место Бога вполне конкретное и центральное и находится оно в евхаристическом собрании – это место Христа на Тайной Вечери! Из этого места в евхаристическом собрании вытекает служение предстоятеля: первосвященство, управление и учительство. Православное богословие со времени раскола увлеклось критикой католической доктрины, которая представляет нам Римского понтифика как наследника Петра, как наместника (викария) Христа. На самом деле, если очистить эту терминологию от папства, то можно найти в ней прямой экклезиологический смысл и отнести ее к любому предстоятелю, к тому, кто занимает место Христа на Тайной Вечери, будь то епископ или пресвитер[75]. Предстоятель евхаристического собрания (Церкви) – действительно наместник в том самом смысле, что он занимает место Христа на Тайной Вечери, потому что ни один пастырь не имеет никакого «своего места» и не исполняет никакого «своего служения», он призван и посвящен исполнять служение Христа-Пастыря в Его Церкви, пасти Его овец (Ин. 2115-17).
Вообще говорить о сколь-либо серьезной критике евхаристической экклезиологии в сочинении Легеева не приходится, потому что он избегает конкретики. Вся эта несуразность и вопросы возникают, так как у критика нет не только понятного объяснения, что такое христианская община, но нет и четкого учения о церковной иерархии. Взявшись за критику сакраментальной экклезиологии, автор не трогает никаких существенных тем, поднятых экклезиологами в XIX и XX веках. Напомним хотя бы кратко о них. Понятие о Церкви как о Теле Христовом, Евхаристии как о конституции Церкви, происхождение таинств, царственное всеобщее священство народа Божьего, диакония, происхождение пастырства, проблема трех иерархических степеней и ступеней, служение древнего епископа и современного, служение пресвитера, апостольское преемство, выборы епископа, собор Церкви, чем отличаются соборы доникейского периода от последующих, соборный и иерархический принципы в жизни Церкви, проблема авторитета, роль первого епископа и центра согласия, что есть местная Церковь, соотношение понятий местной и универсальной Церкви, что такое автокефалия, территориальный принцип устройства Церкви, церковная рецепция, критика секуляризма в самой Церкви, филитизм.
Конечно, ряд этих понятий давно был представлен схоластическим богословием, но в том-то и дело, что схоластическим. Исторические вызовы поставили Церковь совсем в иные условия, Церковь освободилась от симбиоза с государством, что дало богословию импульс ревизовать и переосмыслить историческое бытие Церкви. Экклезиологи XXвека исследовали, как менялась во времени экклезиологическая доктрина и структура самой Церкви, претерпевая в том числе и искажения. Безусловно, погружаясь в эти темы, богословие приходит к глубинным вопросам экклезиологии, вопросам единства и кафоличности Церкви.
Устроителями первой Иерусалимской общины были сами апостолы, они, исполняя заповеди своего Учителя, устроили эту общину по определенной модели. Как известно, другие общины созидались апостолами по образцу Иерусалимской общины, апостолы же поставили первых пресвитеров для этих общин (или епископов, игуменов, их называли по-разному, главное не название, а какое служение они исполняли). В евхаристической экклезиологии Древней Церкви, изученной экклезиологами, все просто и прозрачно, в самых общих чертах она выглядит так: народ Божий, который помазан на царственное священство, а следовательно, ставший народом священников, собирается в собрание-Церковь для общего священнодействия, служение Евхаристии под председательством Первосвященника, то есть первого священника, первого пресвитера, первого старейшины, который занимает в евхаристическом собрании-Церкви место Христа на Тайной Вечери. Его окружают пресвитеры, они имеют ту же харизму пастырства, они соуправители Первого, по образу апостолов Христа (апостолов, которые на суде Божьем воссядут на 12-ти престолах судить 12 колен Израилевых (Мф. 19, 28)). Достаточно посмотреть диптихи Древних Церквей, и мы поймем, что предстоятели менялись часто, но их никто не переводил из одного города в другой, это была эпоха мучеников, и этим все сказано. Члены Местной Церкви выбирали нового предстоятеля как правило из числа своих пресвитеров или своих членов общины. Выборы кандидата – это согласие народа Божьего, это рецепция Местной Церкви. Пресвитеры данной Церкви, как и предстоятели соседних евхаристических общин, поставляли его на служение во время служения Евхаристии, призвав Святой Дух совершить таинство поставления. Необходимость участия соседних предстоятелей (старейших пресвитеров-епископов) – это рецепция Вселенской Церкви, которая свидетельствует об апостольском преемстве, о сохранении единства веры и кафолического Предания как в Местной Церкви-общине, так и во всей Вселенской Церкви. Безусловно, такое идеальное положение могло и нарушаться, но механизм рецепции призван был исправлять искажения. И это вполне конкретная экклезиология, это апостольская парадигма Церкви, которая имеет свой эсхатологический образ: собрание народа Божьего на братскую Трапезу Царства, во главе которой Иисус Христос в окружении апостолов.
Рассмотрим несколько примеров искажения этой апостольской модели.
Народ Божий. Несмотря на разные человеческие несовершенства и беды, Церковь существовала в апостольской модели вплоть до середины III века, когда началось разрастание общин. Но глобальные экклезиологические перемены принесла эпоха воцерковления империи. Несмотря на все положительные аспекты этой эпохи и, конечно, необходимость Церкви скорректировать свою модель с учетом новых исторических условий, произошли все же и явные искажения. В первую очередь, это потеря учения о народе Божьем как народе священников, прекращение выборности епископов, отделение иерархии от народа, секуляризация Церкви и формирование под влиянием языческой мистериальной культуры учения о делении членов Тела Церкви не по роду служения, а на две касты – посвященных (иерархия) и непосвященных (народ-профан). Впоследствии иерархия даже образовала класс духовенства в обществе. Древнюю диаконию сегодня у нас выполняют скорее старосты и различные сестричества и братства, а дьякон превратился в декорацию архиерейского богослужения. И что, мы тоже должны безоговорочно признать эти искажения апостольской модели за торжество Церкви, за закономерное историческое развитие Церкви по образу земной жизни Христа?! Если это признать, тогда логично весь период Древней Церкви от апостолов до IV века именовать младенчеством, где еще не были развиты церковные институты. Ну, тогда ведь и самих апостолов, согласно Легееву, тоже надо признать «мечтателями», которые просто не понимали, что главное в бытие Церкви — это ее «историзм», а не эсхатология.
Епископ. К сегодняшнему дню исторический результат отделения иерархии от народа привел к тому, что епископ оторван от евхаристической общины, он выглядит скорее внешним управляющим, чиновником, финансовым директором, менеджером, поставленным советом директоров. Епископ не просто потерял место в местной евхаристической общине, он еще и не связан с общиной, являясь назначенцем высшей административной власти, он и зависит от этой власти, которая может свободно переместить его на другу кафедру[76]. Служение древнего епископа фактически исполняет приходской пастырь[77]. Выборы епископов прекратились в имперскую эпоху, и только Московский собор 1917-18 гг. их восстановил, но его решениям в этом вопросе следует ничтожная малость Церквей. Изучение сакраментальной экклезиологии Древней Церкви обнажило ряд закоренелых церковных проблем. К сожалению, средневековое богословие не отдало должного внимания экклезиологической перемене, когда с умножением общин в одном городе и дальнейшим возникновением церковных диоцезов по образцу государственных пресвитеры начали служить самостоятельно в отдельных общинах с благословения епископов. В этом смысле мнения современных экклезиологов разделились, большинство считают, что епископ делегирует свои полномочия пресвитерам, но о. Николай Афанасьев и о. Александр Шмеман подчеркивают, что невозможно передать или «делегировать» харизму[78]. На мой взгляд, кроме выборности епископов, есть еще одно верное, заслуживающее внимание, предложение, как вернуть епископу изначальное пастырское место в евхаристической общине – чтобы размеры епархий были небольшие, одна ключевая община и несколько небольших сателлитов, как в древней Церкви[79]. Кроме того, вопрос иерархических степеней и ступеней не ясный: было ли в Древней Церкви такое же восхождение по степеням, как у нас сейчас; например, чтобы посвятить в епископа, должен ли кандидат пройти рукоположение в дьякона и пресвитера (?), эту проблему среди русских ученых высветил еще историк профессор Лебедев[80].
Секулярный юридизм. Уместно ли вообще называть огромный административный округ (патриархат) – «Поместной» Церковью? Ведь изначально Местная Церковь – это евхаристическая община в одном городе во главе со своим предстоятелем. Сегодня название «Поместная Церковь» звучит вообще абсурдно, учитывая, что большая часть поместных Церквей распространяют свои «юрисдикции» по всему миру, привечая свою национальную паству. Осужденный как ересь еще в 1872 году, филетизм, не только не исчез из жизни Православных Церквей, а напротив фактически стал их признаком. Можно ли все это объяснить законным историческим развитием, или мы вынуждены констатировать искажение изначальной апостольской парадигмы?! Кажется очевидным противопоставление принципа римского универсализма и принципа свободного общения независимых «автокефальных» Православных Церквей. Вот только вопрос: какую категорию придаем мы понятию «автокефальной Церкви»? Нынешняя, фактически конфедеративная, модель устройства Православной Церкви берет свое начало в недавнем прошлом, в XIX веке. Национально-освободительные движения в Европе XVIII и XIX веков, особенно в Греции, Сербии, Болгарии, Румынии, возглавляемые ядром интеллигенции этих народов, прошедшим обучение на Западе, привлекли православное духовенство для этой борьбы, чтобы поднять народ. Таким образом Церковь стала орудием в руках национальных сил, и в итоге изменилось понятие автокефалии – теперь это секулярная национальная «юрисдикция». Анализ полемики богословов русской эмиграции показал, что мирские юридические категории так крепко вошли в церковное сознание, что принимаются ошибочно как экклезиологическая сущность[81]. Сам профессор С. Троицкий, нимало не смущаясь, пишет об этой секулярной «юрисдикции» как о должном: «Каждая автокефальная Церковь является полноценным и равноправным субъектом межцерковного права, до некоторой степени аналогичного праву международному»[82]. Откуда вообще взялось это «межцерковное право»?
Филетизм. Проблема филетизма вытекает из национальной секулярной идеи, которая фактически заменила как эсхатологическое измерение сакраментальной экклезиологии Древней Церкви, так и средневековый идеал господства Вселенской Церкви в мире (пусть даже искаженный западного или восточного образца, не важно). В XIX веке определяющим фактором становится нация, которая имеет право на собственное государство и собственную Церковь. Однако мы и тут упираемся в антиномию, ибо во Христе нет ни эллина, ни иудея (Гал. 3, 27-28; Кол. 3, 10-11), но всякий народ принесет Богу на суд свою славу (Откр. 21, 26). Значит всякий народ будет судим по тому, как он воспринял Церковь в своей истории, вошел ли в нее, понес ли Церковь на своем историческом пути. Вся проблема филетизма и вся проблема влияния всяких патриотических и национальных идеологий на Церковь состоит в том, что эти самые идеологии обращают суд на саму Церковь: насколько Церковь была вместе с народом, верна ли она патриотизму? В нашу эпоху глобализации, когда, как в плавильном котле, совершается масштабная унификация национальных культур, от них останется только то, что сможет сохранить Церковь, то, что Церковь одухотворяет и воцерковляет. Богатство воцерковленных культур это богатство Церкви, но это не значит, что прямая задача Церкви только и делать, что беречь нацию, и уж тем более опираться на национальную идею и устраивать свои структуры на манер секулярного национального государства. Легеев уделил филетизму отдельную часть, но перевел весь вопрос опять в другую плоскость, все в тот же больной вопрос первенства Церквей.
Авторитет. Без осмысления темы авторитета и власти в Церкви, которую изучали самым серьезным образом представители сакраментальной экклезиологии, невозможно подходить к вопросам кафоличности и единства. У Легеева этого нет, а ведь проблема авторитета была одной из причин крупных исторических расколов, и сейчас именно она стоит в центре конфликта патриархатов. Легеев пытается показать, что вопрос первенства в Православной Церкви был возбужден недавно Константинопольской Церковью и нашел свое богословское воплощение в трудах митрополита Иоанна Зизиуласа[83], это не так, этот вопрос всегда имел значение. Вопросы авторитета, иерархии Церквей, вселенского и региональных центров согласия весьма полно освящены в трудах приверженцев сакраментальной экклезиологии Древней Церкви. Сперва общепризнанным центром согласия была первая Иерусалимская община, после разрушения Иерусалима авторитет перемещается к Римской Церкви, возникают и региональные центры, например, в Александрии, Антиохии, Карфагене. И хотя дальнейшая история церковного строительства привела к постепенному отождествлению церковной и имперской администрации, замене экклезиологических критериев на юридические и последующему расхождению путей Запада и Востока, все же Церковь старалась хранить сознание необходимости единства и наличие единого центра согласия и авторитета. Афанасьев объясняет, что категория «первенства» принадлежит концепции универсальной экклезиологии с присущими ей юридическими секулярными категориями, усвоенными церковным сознанием в имперскую эпоху; в рамках же евхаристической экклезиологии Древней Церкви авторитет определяется как «приоритет», как приоритетное свидетельство, основанное на учении о благодати[84]. Первый епископ имеет такой авторитет не сам по себе, а через Местную Церковь, которую он возглавляет, которая несет крест великой ответственности служения единству, быть первым свидетелем. К сегодняшнему дню Православная Церковь фактически утратила как учение о Местной Церкви, так и учение о необходимости единого центра и авторитете первого епископа. Последнее произошло потому, что православные долго боролись с приматом Римского папы, выраженным в юридических категориях первенства, и парадоксально, что при этом на уровне автокефальных Церквей первенство существует наподобие римскому. Все это прекрасно изложено в работах многих представителей Парижской школы. Почему Легеев не комментирует конкретно эти работы?
У отца Михаила очень непростая задача: обосновать теологически полное отсутствие завершения иерархической пирамиды на вселенском уровне, при этом уловчиться сохранить и оправдать эту пирамиду на уровне автокефальной юрисдикции. Власть Московского Патриархата, где существует самая жесткая феодальная иерархическая пирамида власти среди всех современных автокефальных Церквей, очень заинтересована в таком богословии.
Я не буду даже приводить работы Афанасьева, Шмемана или Мейендорфа, я приведу мнение архиепископа Василия (Кривошеина), иерарха Московского патриархата, работу которого тоже знает Легеев и указывает на нее в качестве критики евхаристической экклезиологии. Но именно в этой статье владыка Василий ревностно осуждает нынешний автокефализм, разделяющий Церковь на всемирные национальные юрисдикции, и он не отрицает исторический приоритет (первенство) Римской кафедры, а затем после раскола – Константинопольской[85]. Свою уверенность в том, что Православная Церковь не может оставаться без организационного центра, принадлежащего в качестве канонического и исторического авторитета Константинопольской Церкви, которая должна продолжать служение единству, пресвященный Василий подкрепляет неординарным предложением создать в структуре Вселенского патриархата особый синод из представителей всех Церквей[86]. Можно соглашаться или нет с таким предложением, но по крайне мере, это честный поиск выхода из тупика.
Легеев подвергает критике Критский собор 2016 г., называя его концепцию экуменической, но ведь сам о. Михаил – клирик Московского Патриархата, а не Грузинского, последовательно выступающего последние годы против всякого экуменизма. Представители Московского Патриархата давно участвуют в экуменическом движении и участвовали в подготовительной работе Собора и согласовали все его документы, отказавшись от участия в Соборе за несколько дней до начала его работы явно под политическим давлением светской власти. К кому тогда направить эту критику?
От себя отметим, что сакраментальная экклезиология не отпала как засохшая ветвь богословия, она по-прежнему находит своих приверженцев и продолжателей как в институте Святого Сергия в Париже[87], так и повсеместно. Есть весьма существенные работы, где мы находим настоящие критические оценки самой сакраментальной экклезиологии, продолжение вопроса идентификации Церкви, богословский анализ истории, раскрытие антиномия личного и сакраментального, где обсуждаются пути Церкви в условиях нового секулярного мира[88]. Я прекрасно понимаю, что механическая реконструкция экклезиологической модели Древней Церкви невозможна, ведь Предание тогда только живо, когда оно переживается новым поколением членов Церкви в новых исторических условиях. Но это и значит, что нам действительно необходимо богословие истории. Эта наука призвана ревизовать историю Церкви, осмыслить ее на соответствие сотериологической задаче и эсхатологическому устремлению самой Церкви. Мы поклонимся всему великому в нашей истории и будем стараться продолжать развивать это наследие, конечно, с учетом наших современных условий и вызовов нашей эпохи. В то же время мы должны выявить ошибки и найти силы устранить искажения, особенно в области церковного строя.
Мне могут возразить, что такие же цели устранения искажений ставили себе первые протестанты, и в итоге они потеряли существенное. Это произошло потому, что у них восторжествовал рационализм. Библейский образ змея, который выслеживает человека и поражает его в пяту (Быт. 3, 15ф), раскрывается как раз на примере секуляризма, обмирщения Церкви, замене идеала Царства Божьего идеалом земного благополучия человека, крепко прилепленного своей пятой к земле[89]. Этого хочет лукавый дух, чтобы мы везде, будь то Священное Писание или экклезиология – везде устранили все иррациональное, подменили эсхатологический критерий чисто историческим.
«Историзм» не может оправдать ошибки и искажения в бытии самой Церкви. Украинский кризис – не причина нынешних церковных нестроений, а следствие глубочайшего экклезиологического кризиса Православной Церкви. То, что мы видим сегодня на примере конфликта патриархатов – это столкновение двух экклезиологических доктрин: универсальной – средневековой, имперской, и новой – сепаратистской, националистической. И обе они пропитаны секулярными категориями с опорой на юридизм, причем единого канонического кодекса в единой интерпретации Православная Церковь не имеет. В этой последней современной экклезиологической доктрине непонятно, как мешает духовному единству и кафоличности появление автокефальной Украинской Церкви в семье православных автокефальных Церквей? Что, разве для единства обязательно нужно юридическая сцепка? Да и сами Московский или Сербский патриархаты так же в свое время образовались на фоне стремления государств получить «свою национальную Церковь», а теперь препятствуют это делать другим. В том-то и беда, что все это опять та же песня под ту же дудку – продолжение лепки секулярных национальных юрисдикций, а не образование Местных Церквей. Вот потому именно в рамках сакраментальной экклезиологии есть шанс найти выход из этого заколдованного круга, но это понимают лишь немногие из тех, кто несет ответственность за Церковь во всех наших «юрисдикциях».
В самой России в начале 90-х первые впечатления от свободного знакомства широких кругов духовенства, преподавателей и студентов теологических учебных заведений с богословием Парижской школы разнились от восхищения до огульных обвинений в модернизме, затем наступил этап научного анализа и критики. За последние 30 лет свой Московский собор 1917-18 гг. изучен, изданы деяния этого Собора, написаны добротные монографии, издаются большими тиражами труды богословов-эмигрантов, каждая вторая диссертация в теологических школах пишется сегодня по трудам представителей Парижской школы, сакраментальная экклезиология является предметом академических дискуссий на конференциях и коллоквиумах. И что дальше? Скорее всего, судя по монографии о. Михаила Легеева, будет движение к полному отвержению этого богословия руководством Московского патриархата. Вместо него мы уже получаем «иной разрез»: спекулятивную концепцию истории, все тот же Третий Рим и тот же клерикализм, и абстрактную экклезиологию, не отвечающую на конкретные вопросы церковного устройства.
Мы возвращаемся к вопросу союза науки и клерикально-бюрократической системы, которая имеет свои вполне конкретные приземленные интересы, и для их обслуживания нужны придворные богословы (еще лучше, если они талантливы). К сожалению, книга о. Михаила Легеева никак не помогает разрешить нынешний конфликт Церквей, думаю, он и сам об этом знает, цели были поставлены совсем иные. При всей масштабности монографии и многогранности заявленных в ней тем, не трудно заметить ангажированность этой работы, заказ системы, заказ сверху. Таким образом теологию автор превращает в технологию. Увы…
Протоиерей Георгий АШКОВ
Франция, Биарриц
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Легеев Михаил, Богословие истории как наука. Опыт исследования, монография СПбПДА, 2019.
[2] Троицкий С., Апостольское Преемство//Единство Церкви, М, 2016, с. 70.
[3] Легеев, с. 24, 320.
[4] Такие богословские оценки истории Ветхого Завета можно найти у философа и библеиста Евгения Авдеенко, Книга Бытие: Гéнезис и Берешит, т. 2 Экклессиология Книги Бытия, М. 2019.
[5] Серафим, епископ Петергофский, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, О книге, см. Легеев с. 17.
[6] Легеев, там же, с. 206-209.
[7] Там же, с. 61-62, 123, 227.
[8] Там же, с. 241.
[9] Там же, с. 242.
[10] Там же, с. 255-259, 400, 444-451.
[11] Там же, с. 400-401, 450-452.
[12] Карташев А., Воссоздание Святой Руси, Париж, 1956, с. 92-93.
[13] Мейендорф И., Христианское благовестие и социальная ответственность: Православное Предание в истории//Живое Предание, М, 2004, с. 301-302; так же Мейендорф И., Единство Церкви –единство человечества//Церковь в истории, с. 914.
[14] Мейендорф, Христианское благовестие и социальная ответственность, с. 316.
[15] Там же с. 325.
[16] Легеев, там же, с. 529-546.
[17] Бердяяев Н., О духовной буржуазности, Путь, Париж, 1926, № 3, с. 13.
[18] Мейендорф, Единство Церкви –единство человечества, с. 914.
[19] http://www.mitras.ru/soul_put/put_1.htm.
[20] Легеев, с. 436.
[21] Там же, с. 461.
[22] «Так, чередою исторической перспективы, Церковь восходит в своем непогрешимом кафолическо-ипостасном развитии», Легеев, с. 449.
[23] Флоровский, Положение христианского историка, с. 59-61; так же Афанасьев, Церковь, пердседательствующая в любви//Церковь Божия во Христе, ПСТГУ, 2015, с.560
[24] Мейендорф И., Церковный регионализм: структуры общения или прикрытие сепаратизма//Церковь в истории, М.,2018, с.191.
[25] Там же, с. 203-204.
[26] Там же.
[27] Флоровский, Положение христианского историка, с. 63-64; Афанасьев Н, Церковные соборы и их происхождение, М. 2003, с.25, также Афанасьев, Экклезиология вступления в клир, Киев,1997, с. 13.
[28] Легеев, с. 547-569.
[29] Там же, с. 315, 324.
[30] Там же, с. 218,259,264, 289,315.
[31] Антоний (Храповицкий), Нравственная идея догмата Церкви//Собрание сочинений, М. 2007, т. 2, с. 457-475.
[32] Легеев, там же с. 23.
[33] Павел, архиепископ, Как мы веруем, YMCA-PRESS, Paris, 1990.
[34] Иустин Попович, Экклесиология, М. 2005, с. 10, так же Пневматология, с.209.
[35] Легеев, с.270.
[36] Мейендорф, Единство Церкви –единство человечества, с. 909.
[37] Легеев, с.23.
[38] Там же с. 264.
[39] Шмеман А., Богословие и Литургическое Предание/Богословие и богослужение/ Богословие и Евхаристия/Богослужение и эсхатология//Богослужение и Предание, М. 2005.
[40] Яннарас Х. Истина и единство Церкви, М., 2006.
[41] Легеев, там же, с. 272.
[42] Там же, с.276.
[43] Легеев, с. 227, 466.
[44] Мейендорф, Единство Церкви –единство человечества, с. 917.
[45] Легеев, с.512.
[46] Там же, с. 217.
[47] Аквилонов Е, Новозаветное Учение о Церкви, СПб, 1896; Это сочинение Аквилонова академическая критика не приняла с первого раза, ему пришлось переписывать и делать много купюр, настолько работа была неординарна и противоречила схоластике.
[48] Экземплярский В., Библейское и святоотеческое учение о сущности священства, Киев, 1904.
[49] Владимир (Сабодан), Экклезиология в отечественном богословии, Киев, 1997.
[50] Макарий (Булгаков), Православно-догматическое богословие, СПб, 1883, с. 396-403 (нарочно привожу этот схоластический учебник XIX века).
[51] Легеев, с. 299, 378.
[52] Мейендорф, Церковная организация в истории Православия//Церковь в истории, с. 243, 252.
[53] Легеев, с. 418 420.
[54] Там же, с. 310, 316-317.
[55] Шмеман, По поводу богословия соборов//Собрание статей, М, Русский путь, 2009.
[56] Мейендорф, Православное богословие в современном мире//Живое Предание, М., Паломник, 2004.
[57] Jean (Zizioulas), Being as Communion, St. Vladimir’s Press, 1985.
[58] Behr J., Trinitarian Being of the Church, paper presented to the North American Lutheran-Orthodox Dialogue, May 2003, St Vladimir’s Theological Quarterly 48:1 (2004), 67-88.
[59] Софроний (Сахаров), Единство Церкви по образу Святой Троицы//Церковный вестник Западно-Европейского Православного Русского Экзархата, 1950 №2-3, с.8-33.
[60] Софроний (Сахаров), Переписка с протоиереем Георгием Флоровским, 2008, Ответное письмо 1, с.81; так же Шмеман, Вселенский патриархат и Православная Церковь//Собрание статей, с. 365-366.
[61] Bobrinskoy B, Le Mistère de la Trinité. Cours de théologie orthodoxe (издана на русском Бобринский Борис, Тайна Пресвятой Троицы, ПСТГУ, 2015); также Bobrinskoy B., Le Mystère de l’Eglise, Cours de théologie dogmatique,CERF,2003.
[62] Мейендорф И. Кафоличность Церкви//Живое Предание, М. 2004, с. 133; Легеев цитирует на с. 411.
[63] Легеев, с. 411.
[64] Мейендорф И. Кафоличность Церкви, с. 133.
[65] Легеев, с. 421-422.
[66] Там же, с.301.
[67] Там же, с.402, 405-406.
[68] Там же, с. 418, 422, 607.
[69] Легеев, с.402, 405.
[70] Там же, с.406.
[71] Там же, с. 422.
[72] Там же, с.428.
[73] Афанасьев, Кафолическая Церковь//Церковь Божия, с. 499-500 Шмеман, О понятии первенства в православной экклезиологии//Собрание статей с. 396.
[74] Легеев, с. 407, автором указано послание к Магнезийцам св. муч. Игнатия Антиохийского.
[75] Мейендорф, Единство Церкви –единство человечества, с. 917.
[76] Афанасьев, Statio Orbis//Церковь Божия во Христе, ПСТГУ, 2015, с. 607-608.
[77] Мейендорф, Дух, церковное устройство и организация с православной точки зрения/Заметка о Церкви//Церковь в истории, с. 263, 768.
[78] Афанасьев, Экклезиология вступления в клир, Киев, 1997, с.40; Шмеман, По поводу богословия соборов//Собрание статей, М. 2009, 420-421.
[79] Зизиулас И. Божественная Евхаристия и Церковь. Церковь и Евхаристия, 2009, с. 71 (Среди экклезиологических реформ IIВатиканского собора есть пастырские, чтобы приблизить епископа к народу, размеры епархий были пересмотрены, не большие и не маленькие).
[80] https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Lebedev/dukhovenstvo-v-drevnej-vselenskoj-cerkvi/
[81] http://www.lourdes-orthodox.com/menuslovo/90-categoryslovo/115-articleslovo-problemaavtokefalii.html/
[82] Троицкий С., О церковной автокефалии//Единство Церкви, с. 396.
[83] Легеев, с. 428.
[84] Афанасьев, Церковь, председательствующая в любви//Церковь Божия во Христе, с. 598-600.
[85] Василий (Кривошеин), Кафоличность и Церковный строй//Церковь владыки Василия, Нижний Новгород, 2004, с. 256-257.
[86] Там же, с. 257.
[87] https://saint-serge.net/personnel/m-michel-stavrou/
[88] Plank P., Die Eucharistieversammlung als Kirche, Würzburg, 2000; Arjakovsky A. Qu’est-ce que l’orthodoxie ? Gallimard, 2013 ; Александр В. Николай Афанасьев и его евхаристическая экклезиология, М. 2018; Getcha J., Participants de la Nature divine – La spiritualité orthodoxe à l’âge de la sécularisation, APOSTOLIA, 2020.
[89] Авдеенко, Книга Бытие: Гéнезис и Берешит, т. 1 Антропология Книги Бытия, с. 331.