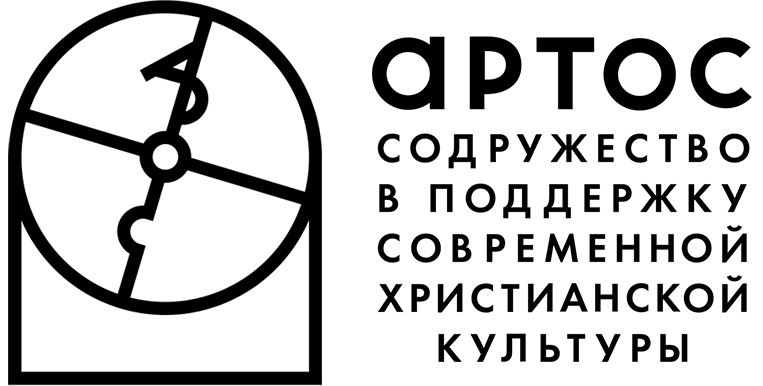В этой статье я намерен пунктирно прочертить линию аргументации, утверждающую присутствие богословия в качестве защитника красоты в современной культуре и в академическом пространстве. Для этого я проделаю три вещи: 1) расскажу одну историю, в которой проявляется актуальная постановка вопроса о красоте; 2) намечу описание культурной ситуации, в которой мы обсуждаем предложенную тему через констатацию двух примечательных фактов; 3) и предложу рассмотрение трех вопросов, касающихся новых возможностей теоэстетики в качестве «первого богословия».
О красивом среди интересного
Самым знаменитым зданием в Харькове является Госпром — конструктивистский шедевр, построенный в 1928 году. Нагромождение параллелепипедов на «самой большой площади Европы» впечатляет всякого туриста. Однажды к нам на практику приехала итальянская студентка и сказала: «Покажи мне красоту в этом городе». Я указал на вид за окном и ответил, что это и есть самое красивое место, на что она вздохнула: «Нет, это не красиво, это интересно». Тогда я понял, что она не зря приехала в интересный город Харьков из красивого города Болоньи, потому что в нашем городе красота — не очевидность, а задача. Но мы зачастую отказываемся ее решать, умаляя красивое до интересного. А надо бы удержаться от растворения красивого в интересном.
И дело было не столько в харьковских реалиях, а в общекультурной подмене, которую описала Сьюзен Зонтаг: «Самое мощное и успешное противодействие красоте сложилось в искусстве: красота и забота о красоте получили статус запретов или, как сейчас выражаются, были объявлены элитистскими. Казалось, мы сможем по достоинству оценить большее число вещей, если будем характеризовать их не как красивые, а как “интересные”» [6, с.195].
Но что же такое «интересное»? Оказывается, в качестве ценностного критерия оно проделало определенную эстетическую эволюцию: если для модернистов, которые, подобно Гертруде Стайн, полагали, что «назвать произведение искусства красивым — все равно, что объявить его мертвым» [6, с.193], «назвать что-то интересным — значит бросить вызов старым способам похвалы» [6, с.196], то для постмодернистов ««интересное» утратило свою трансгрессивную суть» [6, с.196]. «От прежней дерзости осталось лишь презрение к последствиям действий и суждений… Нечто называют интересным ровно для того, чтобы избежать суждения о красоте (или благости). Сейчас интересное — понятие по большей части потребительское и используется для расширения рынка: чем больше интересных вещей, тем больше сбыт» [6, с.196]. Хотя «красота перестала быть мерилом искусства, однако едва ли это симптом ее исчезающего влияния. Скорее это свидетельство исчезающей уверенности в существовании того, что можно назвать искусством» [6, с.193].
Красота выстояла в эстетических спорах ХХ века и возвращается в современную культуру вместе с «реальностью», также утерянной в спорах о модернистских проектах и постмодернистских интерпретациях, как критерий того, что вне «человеческого, слишком человеческого», но при этом несет в себе вызов «человеческому». Говоря об этом возвращении, Зонтаг поясняет: «То, что красиво, напоминает нам о природе как таковой — о том, что лежит за пределами человеческого и сотворенного, — и таким образом усиливает чувство бескрайности и полноты окружающей нас реальности, неодушевленной, но при этом пульсирующей» [6, с.199]. Столь точно характеризуя возвращение вопроса о красоте в современную культуру, Зонтаг старается полемически вывести его обсуждение за пределы религиозного, но не замечает, насколько ее описание является плодотворным и для богословского понимания, так как вводит в богословие культуры вопрос о красоте.
Новая культурная ситуация в двух фактах
В конце 2000 года в «Художественном журнале», подводившем итоги нового российского искусства и художественной критики 90-х годов, Екатерина Деготь отметила, что в профессиональной литературе об искусстве там, где раньше писали слова «мода», «язык», «текст», «интерпретация», теперь пишут слова «реальность», «риск», «коммуникация», «погруженность» [4, с. 103]. Споры о модерне и постмодерне, благодаря вызванному ими «конструктивистскому головокружению» [13], иссякли, а им на смену пришли поиски теории, чувствительной к тому, что всегда выносили за скобки модерн и постмодерн, а именно — к реальности, сопротивляющейся конструктивистской воле утопического активиста и тревожащей интерпретирующий нарциссизм иронического туриста. Если общей аксиомой модерна и постмодерна был тезис о пассивности реальности, скованной модернистским проектом и огороженной дамбой постмодернистской иронии, то в новом тысячелетии в центре культуры оказался вопрос о ране активной, вызывающей реальности, в диапазоне от раны радости до раны страдания и сострадания. Искусство диагностировало тектонический сдвиг в культуре, связанный с возвращением реальности. Однако в новом словаре все еще нет «красоты» среди «реалистических» концептов. Связано это с тем, что красота все еще соотносится с субъективными качествами и не отсылает к характеристикам реального. Разрыв между реальным и человеческим продолжается, хотя красота должна исцелить именно этот разрыв. Продолжается изгнание красоты из актуальных познавательных практик: как и раньше, в науке, философии, гуманитаристике и богословии говорят о символическом, воображаемом и реальном, о структурах, формах и содержаниях, но только не о красоте, оказавшейся в гетто истории эстетики. В 60–70-е годы Ханс Урс фон Бальтазар ответил на умалчивание красоты своей семитомной Теоэстетикой [11]. Современное богословие занялось апологией красоты в контексте возвращения реальности, вслед за Бальтазаром и Аверинцевым оно пытается развить теоэстетику как «первое богословие».
Вторым примечательным фактом, подкрепляющий сказанное, стало появление в США в новом тысячелетии двух крупных работ, посвященных православному систематическому богословию, независимых и совершенно по-разному построенных, которые мыслятся как развитие теоэстетики. И это неожиданно на фоне доминирования работ, выполненных в неопатристическом контексте. Первая книга — «Красота бесконечного. Эстетика христианской истины», написана Дэвидом Хартом в 2003 году (переведена на русский язык [10]). Вторая — «Бог после метафизики. Теологическая эстетика», появилась в 2007 году — написана американским богословом и православным священником Иоанном Пантелеймоном Мануссакисом [14]. Здесь предпринята попытка осмыслить теоэстетику через связь кантианского и баумгартеновского понимания и предложить ключ к современному богословию культуры.
Теоэстетика как первое богословие
Культурную ситуацию, в которой мы сейчас пребываем, можно охарактеризовать как возвращение реальности. Реальность в ХХ веке предавали, как минимум, дважды. Первый раз — в пользу утопий и модернистского конструирования реальности. Разговор о красоте в этом контексте был посвящен качествам проекта и проектирующей воле. Красота предавалась во имя функциональности конструкции и сводилась к человеческой умелости; о реальности и ее свойствах не упоминалось. Реальность была тем, что мы должны преодолеть, претерпеть. Слова Ницше: «то, что не убивает меня, делает меня сильнее» — лучше всего характеризуют утопическую волю, в которой нет места активной реальности.
Второе предательство реальности — это ситуация постмодерна, когда отказавшись от идеологии, мы отступили и от реальности. Это сделано было при помощи иронии как практики дистанцирования от реальности. Красота была отождествлена с интересным и замкнута внутри интертекстуальных пространств. В 1990-е годы уже было неочевидно, что красота отличается от интересного и сохраняет порождающий вызов для культуры.
Примечательно, что заступилась за красоту именно Сьюзан Зонтаг, которая еще в 60-е годы выступила против доминирования интерпретации в понимании искусства в защиту вытесненной реальности: «Сегодня главное для нас — прийти в чувство. Нам надо научиться видеть больше, слышать больше, больше чувствовать… Наша задача — поставить содержание на место, чтобы мы вообще могли увидеть вещь» [5, с.18]. Но должно было пройти три десятилетия, чтобы интерпретационная активность зашла в тупик, и стало очевидным то, что без внимания к вызовам реальности мы можем найти в вещах и текстах только то, что сами туда вложили.
В каждой из этих ситуаций, модернистской и постмодернистской, роль богословия было разным. Когда культура строила и мыслила себя через утопию и идеологию, делом богословия стало защита Присутствия от идеологии. Бальтазар нашел ключ к такой защите через возвращение красоты в богословие на правах одной из трех универсалий, освободив ее от диктата субъективистской редукции. Более того, свой opus magnum, «Славу Божью», он начинает вызывающе сильно: «Начинание является проблемой не только думающей личности, философа, проблемой, которая остается с ним и определяет все его последующие шаги; начинание также является первичным решением, которое включает все последующие для личности, чья жизнь основывается на ответственности и решении… Красота и есть слово, с которого мы начнем. Но красота — это последняя вещь, к которой думающий интеллект смеет приближаться, пока она лишь танцует как неопределенное сияние вокруг двойной констелляции истинного и благого и их нераздельного отношения» [11, v. 1., p. 18]. В постмодернистской ситуации, когда красота растворяется в интересном, делом богослова становится защита красоты от социокультурной детерминации.
Но современная ситуация, которую некоторые исследователи называют «постпостМо», уже абсолютно иная. Возвращение реальности означает очевидность того, что ирония не спасает от пугающей реальности. Она приходит как вызов, как то, от чего нужно защититься. Реальность открывается как то, что, в лучшем случае, к нам равнодушно, а в худшем — опасно. Эпоха неспешных и иронических «игр в бисер» пугающе быстро закончилась, и герой фильма «Матрица» поприветствовал нас в «пустыне реального». Мы оказались в обществе, которое социологи, вслед за Ульрихом Беком, называют «обществом риска» [3] — здесь делом культуры является оценка возможных рисков и стратегия защиты от этих рисков. Культура воспринимается как система защитных фильтров, оберегающая нас от разрушительных вызовов реальности, а язык обнаруживает свою защитную функцию, которую замечательно описал Ф. Р. Анкерсмит: «Мы владеем языком, чтобы у нас не было опыта, чтобы остерегаться опасностей и страхов, обычно вызываемых опытом; язык — это щит, ограждающий нас от прямого контакта с миром, который происходит в опыте» [2, с.33].
Делом богословия теперь становится защита самой реальности от отождествления ее с опасностью и бесчеловечным холодом, в раскрытии реальности как призыва. Если реальность активна, то ее лицо — не только вызов, но и призыв. И проблема современной культуры заключается в том, что, пытаясь справиться со своими страхами, мы защищаем себя не только от вызовов, но и от возможности слышать призыв. Культура воспринимает реальность через опыт возвышенного, лишающего нас дара речи, вводящего нас в мир травмы через события боли, утраты, смерти, ужаса, страдания и печали. И тут первым делом богословия становится крайне актуальное искусство — умение во встрече с реальностью расслышать призыв. А ответом на этот призыв может стать культура слышания, воспринимающая реальность через опыт прекрасного. Если для модернистской культуры красота — это вторичная характеристика конструктивистского утопического усилия, для постмодерниста — это параметр интересности или занимательности, то в новой культурной ситуации красота — это призыв. Интересно, что греческая этимология слова to kalon становится как никогда актуальной. После веков отождествления красоты с гармонией, симметрией и пропорцией более значимой становится этимология, возводящая to kalon к слову kaleo, означающему призыв, притягательность. Так привычные метафоры вдруг обнажают свою первичную интуицию и новые времена освежают анахронический смысл [14, p.159].
Красота как призыв становится главным богословским предложением в обновляющемся пространстве гуманитаристики, в фокусе которой оказывается актуализация культуры присутствия после четырехсот лет доминирования культуры значения. Любопытно, что далекий от богословия исследователь культуры присутствия Х. Гумбрехт, анализирующий активность реальности как производство присутствия, для описания новой культурной чувствительности прибегает к богословской терминологии как наиболее адекватной. Он говорит об эпифании как предмете новой гуманитаристики и о евхаристии как месте рождения новой культуры из духа благодарения за дар присутствия [13]. И делом богословия оказывается защита красоты как притягательности присутствия, ищущей человеческой причастности.
Почему необходимо мыслить эстетически?
Прежде чем поставить вопрос о том, как помыслить красоту, важно увидеть, что в самом мышлении всегда присутствует эстетическое измерение. «Эстетическое», разумеется, не в рамках баумгартеновской науки о прекрасном, а в кантианском значении эстетики как дисциплины, рассматривающей условия, способы и пути восприятия. Когда мы говорим о мышлении как таковом, мы не можем оставаться в понятийных рамках и, оказываясь в области понятийно не схватываемого, прибегаем к перцептивным метафорам. Они не являются риторически избыточными, но скорее относятся к тому классу метафор, которые Х. Блюменберг в «Парадигмах метафорологии» назвал абсолютными метафорами. Они отличаются от традиционных метафор, которые действуют до понятийного мышления и являются «рудиментами на пути «от мифа к логосу» [12, s. 9 — 10], оставаясь маргинально-риторическими украшениями понятийного мышления. Абсолютные же метафоры имеют дело с такими феноменами, как мир, истина, жизнь или само мышление, которым не соответствует конкретное созерцание, и поэтому они не могут быть выражены понятийно. Но мы не можем о них не думать. Более того, мы думаем, исходя из абсолютных метафор. Например, об истине мы думаем как о свете или как об отпечатке, и эти два метафорических поля не могут быть опредмечены, хотя это и не исключает особых отношений между ними.
Когда мы пытаемся помыслить само мышление, мы оказываемся среди, как минимум, трех метафорических полей. Во-первых, мыслить — это значит смотреть. Этому нас научили греки, для которых мышление — это, прежде всего, умо-зрение, теория, созерцание. Мышление — это видение, и это абсолютная метафора. Но мышление может быть слышанием, это иудейская абсолютная метафора. Любопытно, что через отношения мышления и слышания кардинал Ратцингер во «Введении в христианство» раскрывает связь мышления и веры. Он исходит из апостольского Вера от слышания (Рим 10, 17): «Вера исходит из слышания, ибо она есть восприятие того, что услышано, а не вымышлено мною… Данное слово здесь преобладает над мыслью, так что не мысль создает для себя словесное выражение, а данное слово указывает путь спекулятивной мысли» [9, с. 72 — 73].
И, наконец, мышление может быть прикосновением. И если визуальная и аудиальная метафорики проработаны, то тактильная требует дополнительной проработки. Сейчас достаточно держать в уме способы говорить о мысли, как о поразительной, то есть разящей нас, проникновенной, пронзительной, трогательной, касающейся нас, ранящей и т.д. Итак, мы можем говорить либо об уме как видении, либо об уме как слышании, либо об уме как прикосновении.
И если мышление — это наша встреча с реальностью, то тогда оказывается, что, когда мы мыслим красоту и ее восприятие, важно, что мы мыслим, оставаясь среди этих метафор. И то, что их три, открывает вопрос о спасении мышления от разделения на несообщающиеся ментальные поля. Поэтому спасение разума есть собирания этих трех полей. Что же их собирает? Глаз, ухо и рука как метафоры мышления могут сочетаться самыми разными путями, но предварительно необходимо подчеркнуть, что сама проблема такого сочетания является важнейшей богословской проблемой и находится в основании теоэстетики.
Как помыслить красоту в ситуации возвращения реальности?
Когда мы мыслим о красоте, мы остаемся в том или ином метафорическом поле или в их сопряжении. И нужно проследить, каким образом тема красоты раскрывается в том или ином способе мыслить. Если мы говорим о мышлении как умозрении, то медитация о красоте как призыве обращает нас к темам иконичности, лика и взгляда. Тема взгляда в визуальной эстетике — это совершенно актуальная тема, нуждающаяся в богословском развертывании. Современное переоткрытие проблемы взгляда в искусствоведении происходит после столетия споров о фигуративе и нефигуративе в искусстве, благодаря импульсу, идущему со стороны феноменологии образа, как нейтральной к богословию («взгляд с картины» в респонсивной феноменологии Б. Вальденфельса [17]), так и богословски определенной (богословие дара и феноменология данности Ж.-Л. Мариона [8, 15, 16]).
Необходимо отметить, что для мышления о красоте как о призыве недостаточно феноменологически развитой оппозиции иконы и идола, как двух способов визуализации реальности. Если идол подчиняет реальное априорным интенциональным рамкам конструирующего сознания, а икона связывается с преодолением метафизического идолопоконства и раскрывает реальное как избыточный дар («в коем непрерывно, позволяя ему быть, совершается дарение, берущее начало в Бытии» [8, с. 270]), то красота порождает вопрос об обращенности — призыве этой реальности, или о взгляде. Взгляд есть то тактильное в визуальном, что касается меня. Тот, кто смотрит на меня, а не мой взгляд, требует ответа, формирует мою субъективность, мою личностность.
Если мы мыслим красоту, находясь внутри аудиальной метафорики мышления как слышания, то богословие красоты привносит в коммуникативные и лингвистические теории, строящиеся на оппозиции языка и речи, внимание к третьему аспекту языкового феномена — голосу, который обеспечивает присутствие тактильного в слышании. И наконец, если мы мыслим о красоте в поле тактильной метафорики, также появляется триада, которую замечательно раскрывает Мануссакис [14, p. 119 — 158]. Он разворачивает рождение субъективности внутри тактильной метафорики через схватывание, касание (ласку) и поцелуй. Возводя этот словарь к Аристотелю, который сближает мышление и схватывание, дух и руку, и проводит фундаментальное различение природы (нерукотворного) и рукотворного, Мануссакис показывает, что мышление как схватывание открывает присутствие Другого. Через прикосновение мы открываем инаковость Другого. Такое касание Э. Левинас называет лаской [7, c. 250 — 252], а Мануссакис пишет: «В ласке Другой не является больше Объектом моего схватывания, но неприкосновенным Субъектом моего касания» [14, с. 130]. Ласка, открывая Другого, обнаруживает и его недостижимость в бесконечной инаковости. И только выходящий мне на встречу Другой, избыточный и дарящий, замыкает хиазм1 в поцелуе с его символической целостностью и исцелением. Поэтому для Мануссакиса в богословии Откровение или эпифанию возможно помыслить через метафорику поцелуя. Но есть и другие метафорические возможности, приводящие к более глубокому пониманию христианского мышления. Например, такой возможностью, после мышления как схватывания и как касания, может послужить метафора мышления как раны, мышления как ответа на ранящее и поразительное, мышления как уязвимости. И тема красоты входит в поле тактильной метафорики через такой ряд метафор.
Итак, богослов, мыслящий о красоте, приходя на территорию современной гуманитаристики, в сложившееся проблемное пространство, привносит туда свои темы. Богослов приходит к искусствоведу с темой взгляда, к лингвисту — с темами голоса, языка гимна и связанного с ним особого речевого акта — хвалы. И наконец, в анализ рукотворного мира вещей и коммуникативного пространства, богослов привносит разговор о ране. Так проясняется место богослова в современной гуманитаристике, в которой он берет на себя защиту красоты. Более того, в академическом пространстве для него уже есть вопрос, который нельзя адресовать ни искусствоведу, ни филологу, ни медиа-теоретику. Это вопрос о коммуникативном единстве все более разделяющихся сфер академического знания, о том, какое начало способно их собрать. Вопрос этот, как мы стремились показать, связан с вопросом о сопряжении метафорических полей, порождаемых абсолютными метафорами. Чтобы лишь наметить ответ, я хочу вспомнить святого Августина, который в Х книге «Исповеди» показывает этот путь через обращение к Божественной Красоте: «Поздно полюбил я тебя, Красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я Тебя!.. Со мной был Ты, с Тобой я не был. Вдали от Тебя держал меня мир, которого бы не было, не будь он в Тебе. Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою; Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою; Ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без Тебя. Я отведал Тебя и Тебя алчу и жажду; Ты коснулся меня, и я загорелся о мире Твоем» [1, с. 261].
Не созерцание (теория) и не интерпретация определяют горизонт познания, а касание Красоты, ее ранящее Присутствие собирает — спасает его фрагментирующееся безбрежное пространство через огненное замыкание христианской тактильной метафорики. С этим предложением, через теоэстетику, богословие вступает в разговор с современной культурой, опасающейся вызовов возвращающейся реальности и, вместе с тем, не отводящей от нее глаз и вновь учащейся слышать ее призывы.
Автор: Александр Филоненко (Харьков, Украина)
Примечание:
1 Хиазм (от др.-греч. χιασµός) — риторическая фигура, заключающаяся в крестообразном изменении последовательности элементов в двух параллельных рядах слов.
Литература:
1. Августин Аврелий. Исповедь. — М.: Издательство «Ренессанс», 1991.
2. Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. — М.: Издательство «Европа», 2007.
3. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. — М.: Прогресс — Традиция, 2000.
4. Деготь Е. Дважды девяностые: катастрофа и гедонизм // Художественный журнал. — М., 2000. — № 5/ 6.
5. Зонтаг С. Против интерпретации // С. Зонтаг. Мысль как страсть. — М.: Русское феноменологическое общество, 1997.
6. Зонтаг С. Тезис о красоте//Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. — М.: «Новое литературное обозрение», 2011. — №2.
7. Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. — М., СПб: «Университетская книга», 2000.
8. Марион Ж.-Л. Идол и дистанция // Символ. — Париж, М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. — №56.
9. Ратцингер Й. Введение в христианство. — М.: «Духовная библиотека», 2006.
10. Харт Д. Красота Бесконечного. Эстетика христианской истины. — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010.
11. Balthasar, H. U. von. The Glory of God. A Theological Aesthetics. 7 vols.— Edinburgh, San Francisco: Ignatius Press, 1982 — 1989.
12. Blumenberg H. Paradigmen zu einer Mataphorologie // Archiv fur Begriffsgeschichte. — 1960. — №6. — S. 7 — 142.
13. Gumbrecht H. U. Production of Presence: what meaning cannot convey. — Stanford, California: Stanford University Press, 2004.
14. Manoussakis J. P. God after Metaphysics. A Theological Aestetic. — Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2007.
15. Marion J. — L. God without Being. — Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991.
16. Marion J. — L. Being Given. Toward a Phenomenology of Givenness. — Stanford, California: Stanford University Press, 2003.
17. Waldenfels B. Sinnesschwellen: Studien zur Phamenologie des Fremden 3. — Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 2010.