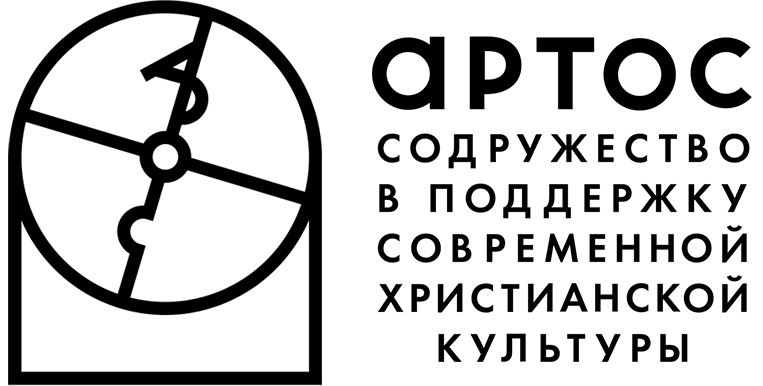Как сформулированы те богословские идеи, которые лежат в основе наших представлений о Церкви? Можно ли говорить о том, что эти идеи носят универсальный характер и, если нет, то что с этим делать? Автор эссе подвергает критическому анализу ряд установок, ставших характерными, если не определяющими для современного российского православного самосознания.
Есть три святоотеческие идеи, высказанные в определённый исторический момент по конкретным поводам. Подходящие для своего времени и места, впоследствии они были восприняты церковным сознанием расширительно и стали всеобщими идеологемами. Все они так или иначе связаны с нашей темой.
Первая идея восходит к текстам священномученика Игнатия Богоносца (самое начало II века). Звучит она так: «Епископ — это Христос». Когда св. Игнатий писал об этом, он имел в виду вопросы дисциплины в тех конкретных общинах, к которым были адресованы его послания. Но затем эта идея в бытии земной церкви разрослась таким образом, что заняла гораздо больший объём и приобрела гораздо большее значение, чем это имел в виду св. Игнатий и вся Первенствующая Церковь. Понимаемая прямо, эта идея является кощунственным идолопоклонством: Христос — это Христос, и никакой епископ, то есть никакой носитель никакого церковного служения не может претендовать на то, что он каким угодно образом, пусть даже символически, «заменяет» Христа. Иначе наша живая вера, в центре которой стоит личное непосредственное общение человека с Единственным и незаменимым Христом, превращается в общерелигиозный символизм. В этом — главная опасность данной идеологемы: подмена живой жизни во Христе теми или иными отвлечёнными «символами». Об этом искривлении церковного сознания много и убедительно писал прот. Александр Шмеман. Здесь же коренится и причина неуспеха миссии, когда проповедуется не Сам Христос и не конкретная жизнь в Нём и с Ним, а нечто иное; в данном случае — некое символическое клерикальное посредство, без которого доступ ко Христу закрыт.
Вторая идея — слова, принадлежащие священномученику Киприану Карфагенскому (III век) «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец». В той конкретной ситуации, в которой эти слова были произнесены (св. Киприан боролся против раскола), они были вполне уместны и оправданы. Но, расширив сферу своего приложения, они вошли в вопиющее противоречие с Евангелием. Бог — Небесный Отец всех людей; Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 5, 45). Отношения Бога и человека совершаются без какого бы то ни было посредства. Церковь в этих взаимоотношениях (я имею в виду институциональную церковь) — вовсе не посредник. Она есть подательница средств к богообщению, обучение богообщению, внешние подпорки богообщения, создание среды для него — но не само богообщение. Церковь есть друг Жениха, Которому надлежит расти, а ей — умаляться (Ин. 3, 29–30). Мысль св. Киприана Карфагенского, став идеологемой, перевернула всё с ног на голову. Институциональная церковь, понимаемая произвольно (сама Церковь не имеет точно сформулированного экклезиологического догмата), начинает решать, кому Бог Отец, а кому — не Отец. Это излишнее и расширительное дерзновение приводит к тому, что институциональная церковь всё больше и больше предписывает Богу, как Он должен поступать, а как нет, кого Ему спасать, а кого нет. Например, Церковь запретила Богу жалеть, а уж тем более спасать самоубийц… Опасность здесь в том, что Церковь становится некоей духовной самоценностью и подменяет собой Бога, формализует жизнь в Боге, редуцируя её к «послушанию Церкви», причём рамки этого послушания остаются весьма неопределёнными (ещё раз повторю, из-за нерешённого Церковью вопроса о самой себе, о своих границах и проч.).
И третья идея — связанное со св. Василием Кесарийским мнение, что внешние чины Церкви являются отображением её небесной красоты. Известно, что великий святитель в быту был чрезвычайно скромен, но в богослужении требовал максимальной красоты и пышности. Он исходил из убеждения, что благолепие богослужения, самые драгоценные материалы, употребляемые для убранства храмов, облачений и проч. есть отображение красоты, велелепия и богатства небесного, горнего мира. От земных драгоценностей ум человека таким образом должен был возводиться к небесной красоте; от человеческого богослужебного чина — к чину ангельскому; от максимальности и избыточности земного священнолепия — к подобию небесной славы.
В те времена это имело миссионерское значение: язычники так привлекались в Церковь. Но с точки зрения Евангелия — это коренная перемена Христовой керигмы, та самая «проповедь иного», на которую Апостол Павел изрёк анафему (Гал. 1, 8–9). Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9). Небесная реальность не может быть соотнесена ни с какими земными украшениями, пусть даже самыми драгоценными, искусными и всеми хвалимыми. Но это вовсе не значит, что небесная реальность недоступна человеку. Чаяние уготованной жизни с Богом в будущем веке даётся христианину уже здесь — но не совне, а внутри: в вере, в личном религиозном чувстве, в обращении сердца к Богу, в предвкушении и отчасти во вкушении самой этой небесной славы — невыразимой словами, но настолько реальной, что десятки тысяч христиан шли за это на смерть в эпоху гонений, а в эпоху «благоденствия» Церкви уходили в пустыню. И вот эта «не-приходимая» на ум человеку небесная реальность теперь стала просто редукцией к самому богатому, самому дорогому, самому красивому, самому блестящему, что только можно найти на падшей земле. Об этом прекрасно писали богословы и религиозные философы Русского зарубежья. Пышность, золото, драгоценные камни, парча, сложность богослужебных чинов, выдуманных человеками (Христос не дал ни малейшего повода, в отличие от Ветхого Завета, к созданию таких чинов) и т.д. — вся эта принадлежность мира сего, который Христос и Апостолы заповедали христианину возненавидеть и отвергнуть, теперь вводится в самую сердцевину Церкви.
Но позвольте, возразят мне. Из этого же родилось великое церковное искусство! Мало того, с этим искусством, ставшим уже навсегда не только внешним обряжением Православия, но и всесторонним, почти сущностным выражением его, Церковь теперь связана неразрывно! Можно даже сказать, что православный христианин и идентифицирует себя как такового прежде всего по тому, принимает ли он это внешнее обряжение Церкви всей душой и восходит ли он через неё к Богу!
Вот в отношении искусства позвольте мне поделиться некоторыми личными впечатлениями. Перед праздником Преображения я поехал по приходским делам, и включил (как всегда я делаю в машине) музыку. Это был Бах, 6-й клавирный концерт (он же — 4-й Бранденбургский). В очередной раз эта музыка захватила меня, привлекла всё моё душевное внимание. Мой слух с великим интересом следил, как Бах развёртывает свою звуковую материю, с помощью которой он — это несомненно для меня — отображает божественную гармонию мироздания. Я был всецело захвачен прослушиваемым, хотя знаю эту музыку больше, чем наизусть: вот уже почти сорок лет я слушаю Баха, и всякий раз поражаюсь его неисчерпываемой глубине.
В тот же вечер я читал на клиросе канон Преображения (в нашем храме чтецов очень мало, поэтому я все двадцать лет своего служения читаю стихиры и каноны сам). Читая канон (и, смею думать, понимая его, в чём у меня, конечно, преимущество перед девяноста пятью процентами посещающих храмы православных христиан), я не мог не отдать себе отчёт в том, что передо мной — произведение литературного искусства эпохи поздней античности, которое я за долгие годы тоже знаю почти наизусть. Канон Преображения — один из лучших и редких образцов православной гимнографии, но на 80%, увы, наши богослужебные книги наполнены бездарным многословным византийским «плетением словес», как о том выразительно говорил прот. Александр Шмеман… Канон Преображения не относится к этим 80%. И всё равно я читал его равнодушно. Я ясно ощущал, что он как произведение искусства для меня исчерпан — в отличие от Баха.
Мне скажут: ну вот, батюшка, вас воодушевляет Бах, а кого-то совсем не воодушевляет, зато канон Преображения из года в год восхищает и душевно напитывает. Я не буду возражать — несомненно, так оно и есть. Но дело вот в чём: если речь идёт о произведениях искусства того или иного жанра — это замечание правильно и законно. На мой взгляд, музыка Баха предельно универсалистская, с великой глубиной отображающая законы Божией гармонии, запечатлённой в мироздании и в творческом даре человека, а византийское православное гимнотворчество — это узкий сегмент искусства, позднеантичная словесность, для понимания и любви к которой нужно гораздо больше специальных знаний, чем для воспринятия музыки Баха. Ну а для кого-то всё наоборот. Есть же почитатели, например, «Телемахиды» Тредиаковского. Некоторые люди любят Хераскова или Державина. Но большинство, и по праву, предпочитают всё же Пушкина.
Но вот что я хотел бы тут подчеркнуть: если бы всё это оставалось на уровне искусства — то тут и спору нет: одному нравится одно, а другому — другое. Однако если Баха никто не возводит на уровень обязательной для христианина религиозности (никто ведь не предписывает слушать Баха в качестве утренних и вечерних молитв), то позднеантичному византизму, этому узкому сегменту мирового искусства, усвоен какой-то особый статус под влиянием 1) идеологемы свт. Василия Великого, 2) символизма сщмч. Игнатия Богоносца, что Христос — это не Сам Христос, а Его символическое отображение и 3) под влиянием того, что «так приняла Церковь». Подтверждением этого будет и то, что любой православный укорит меня, что я рассуждаю о богослужении праздника Преображения как об «искусстве», в то время как это-де, никакое не искусство, а сама богодухновенная сущность того богообщения, которое нам только и доступно.
И здесь мы подходим к главной ошибке — убеждённости в том, что богослужение — не всякое, а именно наше, позднеантично-византийское, — равно богообщению. Читая канон Преображения, я ясно понимал, что молитва как таковая, жизнь с Богом, благоугождение Богу и декламация того или иного текста — это разные вещи. А настаивать на том, что это не так — и есть именно великая церковная педагогическая ошибка. Человек, приходящий ко Христу, узнавший и из Писания, и внутри себя, что христианская жизнь должна заключаться в следовании за Христом, спрашивает у Церкви: «а как это сделать»? Церковь отвечает: «вот, встройся в православный образ жизни — и именно это и будет следованием за Христом». А православный образ жизни по факту на 80% — это богослужения, личное молитвословие и соблюдение церковной дисциплины; всё — только одного варианта: византийского. Это настолько глубоко укоренено в нашем церковном сознании, что другого варианта просто не предусматривается. Недаром же прот. Георгий Флоровский с полной серьёзностью говорил, что православным христианином можно быть, только став византийским греком… Христианин, послушав Церковь, встраивается в этот византизм — и исчерпывает его лет за десять. А что-то иное ему не предлагается. Что делать дальше, когда он всё это исчерпает? Никто не говорит. И одной из главных причин такого положения вещей является то, что здесь изначально заложена ошибка, о которой у нас и идёт речь — предлагать литургическое искусство, и прежде всего гимнографию, в качестве непременного условия для богообщения. Искусство — это опция, украшение; а следование за Христом — это исполнение Его заповедей. Но не только: это ещё и специфическая повседневная, поминутная внутренняя жизнь во Святом Духе, к которой, конечно, имеет отношение Литургия, участие в Таинствах, совместная молитва с другими христианами — но которой надо отдельно учить каждого христианина (и в этом — смысл церковного пастырства). А это «отдельное обучение», в силу того, что все люди разные, не может не противоречить тому, что только и предлагается сегодня в качестве церковной педагогики — а именно обязательное «затачивание себя» под узкое явление, которое объявляет себя «полнотой церковности», но на деле представляет собой не более чем одну из архаичных ветвей церковного искусства, гимнографии и дидактики.
Всё это имеет ещё одно весьма печальное следствие: отмену вариативности — важнейшего церковного принципа, провозглашённого апостолом Павлом. Вспомните 14 главу Послания к Римлянам. Кто хочет — постись, кто хочет — не постись. Кто хочет — празднуй праздники, кто хочет — не празднуй. Всякий поступай по удостоверению своего ума (Рим. 14, 5), только друг друга не осуждайте и не уничижайте (Рим. 14, 10). Блаж. Августин и другие св. отцы древней Церкви исповедывали: «В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всём — любовь». Спрашивается: где это в нашей церковной жизни? «Только так, и никак иначе» — это очень ярко выразил св. Феофан Затворник: православный непременно обязан посещать богослужения, и именно вот эти, и следовать именно этим вот уставам, без каких бы то ни было вариантов, и т.д. Без этого он не христианин, и спасение его в крайней опасности. Почитайте «Начертание христианского нравоучения» — лучшую книгу святителя: там всё это ясно и недвусмысленно прописано. Но где же апостольская вариативность? Её явочным порядком отменила церковь; а как нам уже известно, кому церковь не мать, тому Бог не отец, уж тем более какие-то там апостолы…
И это приводит к путанице в понимании главного и второстепенного в приведённой выше древней, поистине церковной формуле. Богослужение (я не имею в виду здесь Таинство Евхаристии), внешние чины, византийские и древние русские церковные традиции и проч. — это главное или второстепенное? Если главное, то по плодам их узнаете их (Мф. 7, 16): мы видим, что всё это так или иначе исчерпывает себя, и наступает то, о чём мы говорим как о «проблеме расцерковления», как о пастырском и христианском «выгорании». Если второстепенное, если это только опция, которая к тому же изначально задана как вариативная — что тогда главное? Тогда у христианина, который знает, что нужно следовать Христу, но не знает, в чём это должно выражаться, возникает законное требование: покажите мне это главное, дайте мне его, научите меня ему!
Главное — это живая внутренняя жизнь во Христе, Духом Святым, жизнь всецелая, ежеминутная, всеобъемлющая, захватывающе интересная. Где она? Как до неё дойти, где её взять? На это ответа у современной церковной педагогики нет. Всё, что слышит христианин в ответ на свои вопрошания — «эта жизнь высоким и загадочным символическим образом встроена в позднеантичный византизм. Быть «церковным человеком» — значит посещать и обязательно принимать и любить богослужения, вот эти, о которых мы говорим; поститься, исполнять правила и читать святых отцов — опять же, по большей части позднеантичных»… Но если человеку просто не нравится эта словесность, эта внешняя церковность, если она просто «по типу» не подходит ему? Тут-то мы знаем, как ответить: «гордость», «модернизм», «протестантизм» и проч.
При этом несомненно, что ничего плохого ни в гимнографии, ни в церковном искусстве в целом, нет. Только надо называть вещи своими именами: это не богообщение, это подпорка, детоводитель, в конечном итоге — опция в христианстве, и нельзя подменять одно другим. Но подмена эта давно осуществлена и вошла в плоть и кровь церковной жизни. А раз так, то тут вмешивается в дело Сам Бог. Когда Церковь вместо живой жизни во Христе не может предложить ничего, кроме архивированного и копийного искусства, когда подмена Христа символами, мнениями человеческой церкви и заменой небесного земным достигает каких-то пределов, то Бог разрушает всё это. Все ветхозаветные пророки возвещают такое действование Божие. Какой мы получили урок в XX веке! Сколько мы потеряли храмов, икон и проч.! Бог нам через это говорит: «Мне не нужны ваши храмы и иконы. Мне не нужна ваша гимнография, Мне не нужны ваши службы и неусыпающие псалтири, ваши крестные ходы и праздники. Мне нужны ваши сердца и ваша повседневная жизнь». Извлекли ли мы из этого урок? Пусть читатель сам ответит на этот вопрос.
«Но что делать-то, батюшка?» — спросят меня. А вот этого я не знаю. Для этого нужен соборный церковный разум, к которому я и адресую все эти вопросы (если это, конечно, кому-то интересно). Со своей стороны отмечу необходимость ясного осознания христианской иерархии ценностей, и желательно — хоть какой-то возврат к апостольской вариативности, по образцу первых трёх веков существования Церкви на земле, насколько это возможно.
Тогда и литургическое искусство встанет на своё место, и откроет для себя многие прекрасные и новые пути.
Игумен Петр (Мещеринов)
Статья опубликована в альманахе современной христианской культуры «Дары», № 3, 2017, с. 15-21.
Купить онлайн альманах современной христианской культуры «Дары» № 3, 2017 >>