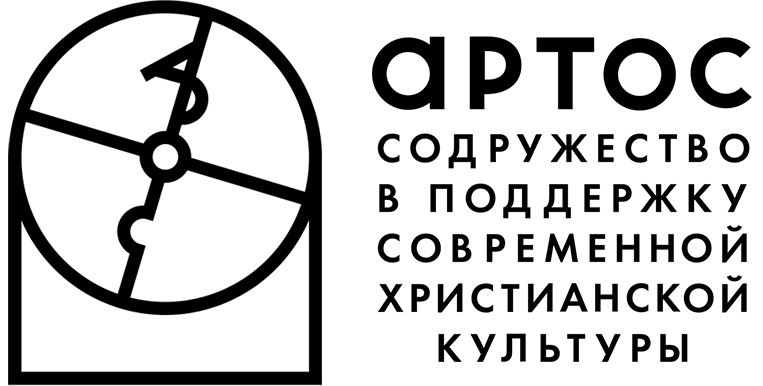Чаю воскресения мертвых
и жизни будущаго века.
Символ веры
Есть ли у Православной Церкви культурное наследие? Казалось бы, ответ очевиден — да, безусловно, и в этом никаких сомнений быть не может. Однако «культурное наследие» как концепция и как юридически обязывающий статус возникли в секулярном мире. Готова ли Церковь принять его без оговорок или же для Церкви это тяжелое и неудобоносимое бремя? И как быть, если общество критически относится к усилиям Церкви по сохранению культурного наследия?
Дмитрий Сладков. Саров. Россия
Наши нынешние представления о культурно-историческом наследии, «уходящем во глубину веков», имеют относительно недавнее происхождение.
Это утверждение не противоречит тому, что наследственная сокровищница, передаваемая от отцов и праотцов, это древнейший культурный архетип. Личные коллекции — княжеские, царские, императорские — включали в себя не только заморские чудеса, но и произведения собственных мастеров. Не менее значимым культурным архетипом была родовая усадьба / фамильный замок. Красивейшие усадьбы и богатейшие сокровищницы становились известны, знамениты. Туда водили почетных гостей.
Со временем аудитория посетителей таких достопримечательных мест расширялась, появлялась их публичность (выделено здесь и далее в тексте. — Авт.) в современном смысле слова.
Ситуация принципиально изменяется с началом строительства национальных государств, когда и возникает понятие культурного наследия в современном смысле. Общедоступный музей с XVII века становится в Европе таким же инструментом национально-государственного строительства, какими в это время стали университет, школа и армия.
В нашей стране тема наследия в очередной раз актуализовалась на выходе из постсоветского уклада. Все традиционное, унаследованное от прошлого, все русское, а вместе с ним и все православное, на относительно недолгое время стало синонимом свободы. Наше церковное наследие тогда тоже освобождало. И не только от советского прошлого.
Прямая связь «наследия» и «наследства» в нашем с вами русском языке очевидна. В других европейских языках она еще более явственна — «[культурное] наследие» и «наследство» просто обозначаются одним и тем же словом.
- heritage
- patrimoine
- patrimonio
- Erbe — Vermächtnis — Nachfolge
- κληρονομιά
Эта омонимия привычна. Но из такой прямой и очевидной связи наследия и наследства следует ряд неочевидных вопросов.
Если есть наследство, значит должен быть и наследник. Иначе мы имеем дело с выморочным имуществом, и тогда встает вопрос: куда оно будет отписано? И кем?
Есть особая правовая процедура — введение в права наследования. Наследование может осуществляться только по праву. В противном случае это не наследование, а самочинное хищение или, проще говоря, разбой, с которым в духовной и культурной сфере приходится встречаться достаточно часто.
Сейчас все уже попривыкли, да и за последние годы появилось немало новых обстоятельств, но в обстановке 1993 года восстановленные указом Ельцина в качестве государственного герба двуглавые орлы -воспринимались без сомнения ворованными. Ответ на так и не заданный, но неслышно звучавший в воздухе вопрос о праве наследования царской и императорской символики республиканским укладом, пусть во многом лишь декларативным, внятно не прозвучал по сию пору. Однако в нашей истории есть не только цари, но и Новгородская республика. И наш нынешний государственный флаг — республиканский. Уже поэтому размышление над этим вопросом представляется уместным.
Все это, конечно же, относится не только к императорским орлам.
Почему наше — современной Церкви — право на наследование именно в последние годы все чаще ставится под вопрос?
Ответ «враги-враги-враги», думаю, вполне имеет право на существование и в этом смысле правилен. Но он удручающе неполон. Враги были и 30 лет назад, поскольку и тогда, как и сегодня, не был окончательно низвержен враг рода человеческого. Однако в те годы общественное доверие к нам — Церкви Божией — было практически безусловным. Теперь это с очевидностью не так. Почему?
Убежден, что дело здесь уже давно обстоит не в «неизжитом наследии советских лет». Глубокое и распространенное недоверие к Церкви коренится в сегодняшней ситуации, и объяснять его паттернами полувековой давности, значит обрекать себя на неадекватность.
Какими практическими делами надо доказывать и подтверждать права на то, чтобы нам сегодня стать полноправными наследниками наших великих предков? Чтобы это было признано Богом и людьми?
И кто имеет право выносить вердикт в этой борьбе за наследие? Мы сами?
Наследие — овеществленная традиция. Но сама по себе идея традиции противоположна идее эсхатологического чаяния, на которой основана наша христианская вера и которая — о веке веков, о встрече с Живым Христом, ожидаемой в любой момент. Идея же традиции — просто о череде веков, в течение которых надеются воспроизвести себя.
Интересно, что в «Трех разговорах…» Владимира Соловьева антихрист искушает образами наследия и традиции именно православных. И искушает не без успеха.
«…Любезные братья! Знаю я, что между вами есть и такие, для которых всего дороже в христианстве его священное предание, старые символы, старые песни и молитвы, иконы и чин богослужения. И в самом деле, что может быть дороже этого для религиозной души? Знайте же, возлюбленные, что сегодня подписан мною устав и назначены богатые средства Всемирному музею христианской археологии в славном нашем имперском городе Константинополе с целью собирания, изучения и хранения всяких памятников церковной древности, преимущественно восточной, а вас я прошу завтра же избрать из среды своей комиссию для обсуждения со мною тех мер, которые должны быть приняты с целью возможного приближения современного быта, нравов и обычаев к преданию и установлениям святой православной церкви! Братья православные! Кому по сердцу эта моя воля, кто по сердечному чувству может назвать меня своим истинным вождем и владыкою, пусть взойдет сюда». — И большая часть иерархов Востока и Севера, половина бывших староверов и более половины православных священников, монахов и мирян с радостными кликами взошли на эстраду.1
С темой наследия как наследства связан еще один страшный вопрос: если речь идет о наследстве, то кто умер?
В наши дни базовая характеристика наследия — его уникальность / невоспроизводимость. Это своего рода «потерянный рай», мы глубоко убеждены, что сегодня так сделать не можем и уже никогда не сможем. Богатыри — не мы…
С какого-то момента на первый план вышла категория подлинности. Именно потому недавние пожары — парижский, а до него кондопожский — это действительно трагедии.
С этим связаны ключевые проблемы функциональной роли наследия в современном обществе.
И в XXI веке наследие, как и прежде, зачастую остается в роли одной из несущих опор национально-государственного строительства. На символическую утилизацию наследия опирается общественно-политическая архаика. Это происходит и в исламском мире, и в сегодняшней России, и во многих иных местах. Но есть и другие тренды.
В наше время одна из основных форм «использования» наследия — это культурный туризм. Он существовал и в XIX веке, но лишь начиная с XX столетия стал феноменом, не имеющим аналогов в истории человечества по своей массовости и масштабу. Почему?
Фактически уже произошедшая в мире унификация производства, повседневного быта и массовой культуры ведет к всеобщему кризису идентичности. Я кто? — Конь в пальто!.. Работаю на международную корпорацию, включенную в глобальную сеть разделения труда. Пользуюсь в быту девайсами, произведенными на другом конце света. Покупаю на обед продукты, выращенные в десятках разных стран. Смотрю сериалы, снятые на одной из мировых кинофабрик.
Эта ситуация стала для нас привычной, сама собой разумеющейся. Но она на самом деле новая, как бы мы себя ни успокаивали, совсем новая и непривычная. Сам по себе повседневный индивид беспредельно адаптивен и приспособится к чему угодно. Непривычно и зябко его «внутреннему человеку», под вопрос ставятся какие-то глубинные схемы и картины понимания мира и себя, укоренившиеся за много веков.
И это положение вещей со всем толерантным оптимизмом глобального всесотрудничества и всепроникновения уж точно не тождественно боевому оптимизму времен строительства национальных государств.
Для сохранения душевного равновесия в этой ситуации становятся нужны внешние опоры, костыли идентичности. И в качестве одного из таких костылей появляется «наследие» — особым образом отрефлектированные и закрепленные следы культуры, прежде живой, а теперь потерявшей способность к творческому воспроизведению.
Отсюда — вся трагическая напряженность темы «сохранения наследия». Ведь нужное нам как никогда наследие, которое мы уже не можем воспроизвести в живой культуре, а значит, при определенном стечении обстоятельств можем потерять навсегда, становится действительно уникальным.
И одновременно — тиражируемым всей мощью современной техники, информационных каналов, издательского, сувенирного, рекламного дела. Рыночный спрос на уникальный товар — наследие — в условиях кризиса идентичности обеспечен.
Отсюда — и массовая практика «восстановления» как изготовления муляжей / буквальных копий, и забвение в реставрационном деле Венецианской хартии, и удивительная вторичность новой церковной архитектуры, всецело ориентированной в прошлое.
Объекты «высокого наследия» уже не трактуются однозначно как святыни, а становятся материалом массовой культуры. Вот лишь несколько впечатлений последних лет:
Площадь Святого Петра в Риме. И площадь, и сам собор плотно заполнены, по меньшей мере, на две трети, китайскими, корейскими, японскими туристами. Или верующими паломниками? На первый взгляд, вряд ли это паломники. Никто не молится, все оживленно разговаривают, фотографируют и фотографируются. Всюду гиды с флажками — тоже азиатской внешности. И речь — совсем незнакомая.
Собор Парижской Богоматери. Разноязыкая толпа, гомон, шум. Фотоаппараты, полные пожилые дамы в шортах. В этом гомоне прямо перед алтарем стоят несколько человек на коленях, сосредоточенно молятся. Вдруг из невидимых динамиков раздается голос, как бы негромкий, но покрывающий все звуки толпы: «Ш-ш-ш-ш-ш-ш… Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш…» И потом на разных языках: «Le silence…Silence… Stille…» Гомон сразу стихает, но уже через пару минут постепенно возобновляется и набирает прежнюю силу. И довольно скоро все повторяется: «Ш-ш-ш-ш-ш-ш…»
Аббатство Мон-сен-Мишель. Реки туристов всех языков и цветов кожи. Длинная очередь в собор, где нет литургии со времен Великой революции. Лежа на газоне рядом с очередью, метрах в пятнадцати от входа в собор, смуглая пара без смущения и даже с вызовом занимается любовью. Нет, оба в одежде, но прижимаются ритмично, страстно стонут. Сотни добрых людей, желающих «осмотреть историческую достопримечательность», отводят глаза. Проходим в собор. Пустое место, где когда-то стоял престол, огорожено ленточками. На месте престола ваза с цветами.
Денег за вход не брали ни в одном из этих трех мест. Но впечатление присутствия и даже господства некоей большой финансово-промышленной машины было сильным. Не меньшее впечатление подобного рода оставляют в разгар туристического сезона соборы Московского Кремля, Троице-Сергиева лавра, иные наши святыни.
Один из вопросов состоит в том, насколько мы сами — как Церковь — включены в эти финансовые, медийные, производственные, масс-культурные потоки? В какой роли? В каких отношениях? С какой перспективой? С кем мы конкурируем? И в чем наше принципиальное отличие от иных участников этих процессов?
И главное: как мы сумеем в этой ситуации обратиться к людям, самым разным, далеко не только «нашим». Тем самым, о которым мы молимся, произнося за Литургией «…и о всех, и за вся…». И видим в них образ Божий, пусть поврежденный, как, безусловно, он поврежден и в нас самих.
Так кто же умер? Небоязненные поиски простого и прямого ответа на этот вопрос заставляют перебирать варианты.
Ницшеанское «Бог умер» гулким многоголосым эхом прошло через философию и самосознание конца XIX и всего XX века.2 Эти слова стали объясняющей моделью для многих явлений этого времени, которое мы по умолчанию считаем нашим временем.
Умер ли Бог? Не думаю. Иногда, совсем нечасто, Его удается услышать. И всегда, каждодневно, есть счастье видеть Его деятельную руку во всех чудесах сотворенного Им мира. В красоте. В уме и доброте ближних и дальних. Это мой личный и непосредственный опыт, который я, по крайней мере, пока, не могу подвернуть никакой деконструкции, не могу и не хочу как-то «объяснить» или «проанализировать».
А Церковь? Россия? Живы ли они?
Протоиерей Георгий Митрофанов — и не он один — считает, что историческая Россия умерла безвозвратно и уже не воскреснет, не возродится.3 Она невосстановима, если перейти в модальность сознательных и целенаправленных человеческих усилий. При таком ходе мысли и чувства вполне возможно, что умерла и невосстановима в прежнем виде историческая Русская Церковь.
Проблематизация концепта «церковного возрождения», которое, согласно официальной трактовке, произошло у нас на минувшем рубеже веков, идет сейчас полным ходом. Здесь много жесткого, неприятного, болезненного. И раскрытие преемства нынешней церковной жизни от советского уклада, сходства человека церковного и человека советского. И уподобление происходящего в Церкви ролевым играм, исторической реконструкции. И применение к церковной экономике понятия франшизы как права возмездного пользования церковным брендом. И предание публичности прежде скрытых жизненных коллизий и человеческих трагедий, разворачивающихся в тени церковных стен.
Это движение открывает внутренне конфликтную, больную и очень многообразную реальность за завесой уверенных гладких слов о духовности и православности. Оно вызвано в первую очередь сердечной болью за Церковь, где официальное самоописание мало соответствует повседневному опыту. Трактовка этих вопрошаний сердца и ума как вражеских происков понятна и с определенной точки зрения естественна, но ничего не прибавляет содержательно, не объясняет происходящего в церковной и церковно-общественной реальности.
Какова роль наследия в этих обстоятельствах?
Сегодня перед нами вызов, аналогичный тому, перед которым когда-то встал Лютер. Обмирщение и политизация Церкви земной, ее переплетение с интересами князей мира сего, иссыхание традиции, становящейся из светлого окна в небо непрозрачной перегородкой, порождают не только сомнение и разочарование, но и христианский протест. Деятельное желание заново обрести прямые пути ко Христу.
Призыв ветхозаветного пророка был слышен не только Иоанну Крестителю. Он слышен в каждую историческую эпоху каждому сердцу, возревновавшему о Христе. …Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. (Ис. 40, 3, Мф. 3, 3).
Понятно, что разрешение кризиса сегодня будет иным, нежели пятьсот лет назад, когда внерелигиозной жизни просто не мыслилось. Новых деноминаций не появится. В наше время все несогласные просто будут вылетать в безбрежное секулярное пространство.
Искушение радикализма в этой ситуации велико. И вопрос: «От какого наследства мы отказываемся?»4 звучит по-ленински радикально.
Процесс инвентаризации нашего наследия начался. Он разворачивается вне зависимости от намерений каждого из нас. Простым и бесконфликтным он не будет. И быстро не завершится.
Наше наследство обременено долгами. Болезни и несовершенства Церкви земной очевидны. Они не умаляют нашей любви к ней и нашей преданности. Именно любовь и преданность дают нам силы молить Господа, чтобы Он исцелил эти болезни. Исцелил нас.
Готово ли будет следующее поколение Церкви выплачивать эти долги, брать на себя моральную ответственность, например, за произвол архиереев и безгласие клира и мирян. Пока не знаю. Это будет зависеть от того, кто в нашу Церковь придет и кто в ней останется.
Как будут выглядеть эти вопрошания применительно к той части нашего наследства, которую принято называть историко-культурным наследием? Хороший вопрос.
Как глазами Господа нашего Иисуса Христа посмотреть на наши храмы, иконы, облачения, молитвословия, песнопения? На то, что строилось и писалось в последние два тысячелетия, и на что, что строится и пишется сейчас. Глазами Великого Господина и Отца, Торжествующего Царя мироздания — здесь на земле пребывавшего в зраке раба и принявшего после пыток позорную смерть. Как удостовериться, что мы смотрим на творения рук человеческих действительно Его глазами, что в нашем сердце и уме вызревает действительно Его суждение? Кто нам об этом скажет, кто удостоверит подлинность?
Исторический корпус историко-культурного наследия Церкви не перестал быть великой сокровищницей, полной драгоценностей. Но он стал и нашим обременением.
Посмотрим на круг дискуссий последнего времени. Впрочем, границы этого «последнего времени» — едва ли не весь ХХ век. Мы видим тему богослужебного языка. Тему избыточности позднеантичной византийской поэтики в богослужении. Тему роскоши церковного убранства и разговоров о «минимализме».5 Тему возможности разных литургических традиций. Тему календаря. Тему выхода за привычный круг одних и тех же архитектурных решений. Это самостоятельные сюжеты, но в них немало общего. Все они не так далеки от размышлений о том, насколько в церковных стенах и рядом с ними возможны личная свобода, достоинство и осмысленный взгляд на происходящее.
Думаю, в свете этого движения — обретения свободы и достоинства во Христе — следовало бы относиться и к проблематике наследия. Прежняя жизнь умерла, как умирала она, по словам Честертона, уже много раз.6 И в отношении к ее наследству нужна трезвость. Наследство принадлежит нам, а не мы принадлежим наследству. Правда, это справедливо лишь в одном случае: если мы живы.
Но умершая жизнь обязательно воскреснет. Произнося каждодневно, «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», мы говорим не только о самих себе и об ушедших любимых. Мы говорим обо всех нас. О нашей жизни и о нашей Церкви.
Эссе опубликовано в альманахе современной христианской культуры «Дары», № 6, 2020, с. 158-164. >>>
Примечания:
1 Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со включением краткой повести об антихристе. — СПб: Типография изд-ва «Труд», 1900.
2 Ницше Ф. В. Веселая наука. — СПб: Азбука-классика, 2010.
3 Лученко К. В. Протоиерей Георгий Митрофанов: По мироощущению я — белогвардеец. https://www.pravmir.ru/protoierej-georgij-mitrofanov-po-mirooshhushheniyu-ya-belogvardeec/
4 Статья в сборнике: Владимир Ильин. Экономические этюды и статьи. СПБ: 1898.
5 Минимализм в церковном искусстве. По итогам круглого стола. — Альманах современной христианской культуры «Дары», выпуск 4. — М.: Содружество «Артос», 2018. — С. 44–56.
6 Честертон Г. К. Пять смертей веры. — Из кн. «Вечный человек». — Честертон Г. К., Собр. соч.: В 5 т. Т. 5: Вечный Человек. Эссе / Пер. с англ.; Сост. и общ. ред. Н. Л. Трауберг. — СПб.: Амфора, 2000.