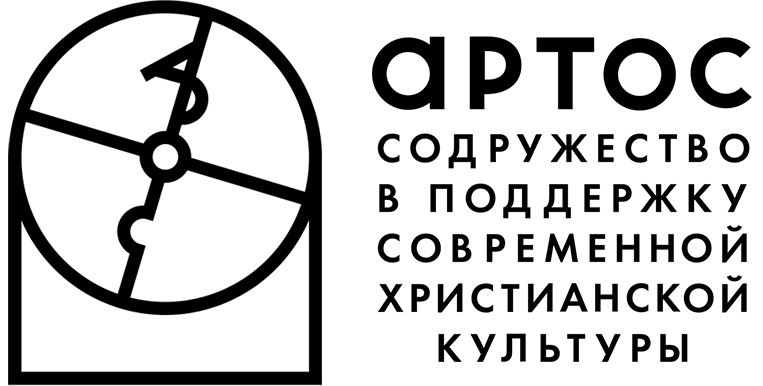Красота природы, красивые люди и красивые вещи всегда указывают на Того, кто лежит за пределами тварного мира, — на Бога. Через видимое и осязаемое они свидетельствуют о присутствии невидимого. Способность человека постигать красоту, как сотворенную, так и божественную, подразумевает нечто гораздо большее, чем субъективные «эстетические» предпочтения. На уровне духа красота сосуществует с истиной. О красоте можно говорить как проявлении присутствия и силы Бога.
Митрополит Диоклийский Каллист (Уэр, + 2022).
Оксфорд. Великобритания
«Страшная и таинственная»
«Красота спасет мир» — эта загадочная фраза Достоевского часто цитируется. Гораздо реже упоминается, что эти слова принадлежат одному из героев романа «Идиот» — князю Мышкину1. Автор не обязательно соглашается со взглядами, приписываемыми различным персонажам его литературных произведений. Хотя в этом случае князь Мышкин, по-видимому, действительно высказывает убеждения самого Достоевского. В других романах, скажем, в «Братьях Карамазовых», выражается гораздо более настороженное отношение к красоте. «Красота — это страшная и ужасная вещь, — говорит Дмитрий Карамазов. — Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречья вместе живут». Дмитрий добавляет, что в поисках красоты человек «начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским». И приходит к такому заключению:
«Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей»2.
Возможно, что оба правы — и князь Мышкин, и Дмитрий Карамазов. В падшем мире красота носит опасный, двойственный характер: она не только спасительна, но и может ввести в глубокий соблазн. «Скажи, откуда ты приходишь, Красота? Твой взор — лазурь небес иль порожденье ада?» — вопрошает Шарль Бодлер. Еву прельстила именно красота плода, предложенного ей змием: она увидела, что он приятен для глаз (ср. Быт 3, 6).
Эту двойственность подчеркивает автор Книги Премудрости Соломона. Красота сотворенных вещей, говорит он, ведет нас к Богу, «Виновнику красоты», ибо от величия красоты созданий (…) познается Виновник бытия их (Прем. 13, 5).
Однако, продолжает он, это происходит не всегда. Красота может также сбить нас с пути, так что мы довольствуемся «видимыми совершенствами» временных вещей и уже не ищем их Творца (Прем. 13, 1–7). Само очарование красотой, которое превращает ее из таинства в идол, может оказаться западней, которая изображает мир как нечто непонятное и неясное. Красота перестает быть источником очищения, когда, вместо того, чтобы направлять ввысь, становится самоцелью.
Лорд Байрон был не совсем неправ, говоря о «даре пагубном чудесной красоты». Однако он не был и полностью прав. Но мы, ни на мгновение не забывая о двойственной природе красоты, должны в большей степени сосредоточиться на ее жизнетворящей силе, чем на ее соблазнах. Интереснее смотреть на свет, чем на тень. На первый взгляд, утверждение о том, что «красота спасет мир», может действительно показаться слишком сентиментальным и далеким от жизни. Есть ли вообще смысл говорить о спасении через красоту, когда нас окружают бесчисленные трагедии: болезни, голод, терроризм, этнические чистки, жестокое обращение с детьми? Тем не менее, слова Достоевского, возможно, предлагают нам очень важный ключ к разгадке: они указывают на то, что страдания и скорби падшего создания могут быть искуплены и преображены. В надежде на это рассмотрим два уровня красоты. Первый — это божественная несотворенная красота, а второй — сотворенная красота природы и людей.
Бог как красота
«Бог добр; Он — Сам Доброта. Бог правдив; Он — Сам Правда. Бог прославлен, и Его слава — сама Красота»3. Эти слова протоиерея Сергия Булгакова (1871–1944), возможно, величайшего православного мыслителя двадцатого столетия, дают нам подходящую отправную точку. Он работал над известной триадой греческой философии: добро, истина и красота. Эти три качества достигают у Бога совершенного совпадения, образуя единую и нераздельную реальность. Но в то же время каждое из них выражает конкретную сторону божественного бытия. Тогда что же означает божественная красота, если рассматривать ее отдельно от Его доброты и Его истины?
Ответ дает греческое слово kalos, которое значит «красивый». Это слово можно также перевести как «добрый», но в упомянутой выше триаде для обозначения «доброго» используется другое слово — aga-thos. Тогда, воспринимая kalos в значении «красивый», можно, следуя Платону, отметить, что этимологически оно связано с глаголом kaleo, означающим «я зову» или «призываю», «я молю» или «взываю»4. В этом случае налицо особое качество красоты: она призывает, манит и притягивает нас. Она выводит нас за пределы самих себя и приводит к отношениям с Другим. Она пробуждает в нас eros, ощущение сильного желания и томления, которые К. С. Льюис в своей автобиографии называет «радостью»5. В каждом из нас живет тоска по красоте, жажда чего-то, запрятанного глубоко в нашем подсознании, того, что было известно нам в далеком прошлом, однако сейчас почему-то нам не подвластно.
Тем самым красота как объект или субъект нашего eros’а непосредственно влечет и тревожит нас своим магнетизмом и очарованием, так что не нуждается в оправе добродетели и истины. Одним словом, божественная красота выражает притягательную силу Бога. Сразу же становится очевидным, что существует неотъемлемая связь между красотой и любовью. Когда святой Августин (354–430) начал писать свою «Исповедь», то более всего его терзало то, что он не любил божественную красоту:
«Слишком поздно я возлюбил Тебя, о Божественная Красота, столь древняя и столь юная!»6
Эта красота Царства Божиего — лейтмотив Псалтири. Единственное желание Давида — созерцать красоту Бога:
Одного просил я у Господа, того только ищу,
чтобы пребывать мне в доме Господнем
во все дни жизни моей,
созерцать красоту Господню.
(Пс 27/26, 4)
Обращаясь к мессианскому царю, Давид утверждает: Ты прекраснее сынов человеческих (Пс. 45/44, 3). Если Бог сам красив, то красив и Его храм: сила и великолепие во святилище Его (Пс. 96/95, 6). Таким образом, красота ассоциируется с богослужением: поклонитесь Господу в благолепном святилище Его (Пс. 29/28, 2).
Бог являет себя в красоте: С Сиона, который есть верх красоты, является Бог (Пс. 49, 2).
Если красота, таким образом, имеет теофаническую природу, то Христос — высшее самопроявление Бога — познается не только как добро (Мк. 10, 18) и истина (Ин. 14, 6), но в равной степени и как красота. Во время преображения Христа на горе Фавор, где в высшей степени раскрылась божественная красота Богочеловека, святой Петр многозначительно говорит: Хорошо (kalon) нам здесь быть (Мф. 17, 4). Самое время вспомнить о двойном значении прилагательного kalos. Петр не только утверждает сущностное благо небесного видения, но и провозглашает: это место красоты. Тем самым слова Иисуса Я есмь пастырь добрый (kalos) (Ин. 10, 11) можно с такой же, если не с большей точностью, истолковать так: Я есмь пастырь красивый (ho poemen ho kalos). Этой версии придерживался архимандрит Лев Жилле (1893–1980), чьи размышления над Священным Писанием, часто публиковавшиеся под псевдонимом «монах Восточной церкви», столь высоко оцениваются членами нашего братства7.
Двойное наследие Священного Писания и платонизма давало возможность греческим отцам церкви говорить о божественной красоте как о всеобъемлющей точке притяжения. Для святого Дионисия Ареопагита красота Бога — это первопричина и одновременно цель всех сотворенных существ. Он пишет: «Из этой красоты исходит все существующее… Красота объединяет все вещи и является источником всех вещей. Это великая созидающая первопричина, которая пробуждает мир и хранит бытие всех вещей посредством присущей им жажды красоты»8. По словам Фомы Аквинского (около 1225–1274), «omnia… ex divina pulchritudine procedunt» — «все вещи возникают из Божественной Красоты»9. Будучи, согласно Дионисию, источником бытия и «созидающей первопричиной», красота — одновременно и цель, и «конечный предел» всех вещей, их «конечная причина». То есть, отправная точка в то же время является конечной точкой. Жажда (eros) несотворенной красоты объединяет все сотворенные существа и соединяет их в одном прочном и гармоничном целом. Рассматривая связь между kalos и kaleo, Дионисий пишет: «Красота “призывает” все вещи к себе (по этой причине она называется “красотой”), и собирает все в себе»10.
Таким образом, божественная красота — это как первоисточник и формирующее начало, так и объединяющая цель. И хотя в Послании к Колоссянам святой апостол Павел не пользуется словом «красота», но то, что он говорит, касаясь космического значения Христа, точно соответствует божественной красоте: «Им создано все… все Им и для Него создано. … и все им стоит» (Кол. 1, 16–17).
Ищите Христа повсюду
Если таков всеобъемлющий масштаб божественной красоты, то что сказать о красоте сотворенной? Она существует, главным образом, на трех уровнях: вещей, людей и священнодействий. Иными словами — это красота природы, красота ангелов и святых и красота Литургии.
Красота природы особенно подчеркивается в завершении рассказа о сотворении мира в Книге Бытия: И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма (Быт. 1, 31). В греческой версии Ветхого Завета (Септуагинте) выражение «очень хороший» передается словами kala lian, поэтому в силу двойного значения прилагательного kalos слова Книги Бытия могут быть переведены не только как «хорошо весьма», но и как «весьма красиво». Несомненно, есть веский довод для того, чтобы воспользоваться вторым толкованием: для современной светской культуры основным средством, благодаря которому большинство наших западных современников достигают отдаленного представления о трансцендентном, является именно красота природы, так же как и поэзии, живописи и музыки. Для русского писателя Андрея Синявского (литературный псевдоним — Абрам Терц), который пять лет провел в советских лагерях, а потому был далек от сентиментального эскапизма, «природа — леса, горы, небеса — это бесконечность, данная нам в самом доступном, осязаемом виде»11.
Духовная ценность природной красоты проявляется в суточном круге богослужения Православной церкви. В литургическом времени новый день начинается не в полночь и не на рассвете, а на закате солнца. Такое понимание времени в иудаизме объясняет история сотворения мира в Книге Бытия: И был вечер, и было утро: день один (Быт. 1, 5). Вечер наступает перед утром. Этот древнееврейский подход сохранился в христианстве. Значит, вечерня — это не завершение дня, а вступление в новый день, который только начинается. Это первая служба в суточном круге богослужения. Как же тогда начинается вечерня в Православной церкви? Она всегда начинается одинаково, за исключением Пасхальной седмицы. Мы читаем или поем псалом, который, по сути, гимн восхваления красоты творения:
Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием… Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал ты премудро (Пс 104/103, 1, 24).
Начиная новый день, мы прежде всего думаем о том, что окружающий нас сотворенный мир — это четкое отражение несотворенной красоты Бога. Отец Александр Шмеман (1921–1983) говорит о вечерне, что она начинается с начала:
«Это значит, в переоткрытии, в благоволении и в благодарении мира, сотворенного Богом. Церковь словно приводит нас к первому вечеру, в который человек, призванный Богом к жизни, открыл глаза и увидел то, что Бог в Своей любви давал ему, увидел всю красоту, все великолепие храма, в котором он стоял, и вознес благодарение Богу. И, воздавая благодарение, он стал самим собой… И если Церковь — во Христе, то первое, что она делает — воздает благодарение, возвращает мир Богу»12.
Ценность сотворенной красоты в равной степени подтверждается троичным построением христианской жизни, о чем неоднократно говорили духовные авторы христианского Востока, начиная с Оригена (ок. 185–254) и Евагрия Понтийского (346–399). Сокровенный путь различает три стадии или уровня: practici(«активная жизнь»), physiki («созерцание природы») и theologia (созерцание Бога). Путь начинается с активных аскетических усилий, с борьбы за то, чтобы избегать греховных поступков, искоренять порочные мысли или страсти и таким образом достичь духовной свободы. Путь завершается «богословием», в этом контексте означающим видение Бога, единение в любви с Пресвятой Троицей. Но между двумя этими уровнями находится промежуточная стадия — «природное созерцание», или «созерцание природы».
«Созерцание природы» имеет два аспекта: отрицательный и положительный. Отрицательная сторона — это познание того, что вещи в падшем мире обманчивы и преходящи, и поэтому необходимо выйти за их пределы и обратиться к Создателю. А положительная сторона — это возможность видеть Бога во всех вещах и все вещи в Боге. Еще раз процитируем Андрея Синявского: «Природа прекрасна, потому что на нее смотрит Бог. Молча, издалека Он смотрит на леса, и этого достаточно»13. То есть природное созерцание — это видение мира природы как тайны божественного присутствия. Пока мы не можем созерцать Бога таким, каков Он есть, мы учимся открывать Его в Его творениях. В теперешней жизни созерцать Бога таким, каков Он есть, может очень мало людей, но открывать Его в Его творениях может каждый из нас без исключения. Бог гораздо более досягаем, гораздо ближе к нам, чем мы обычно представляем себе. Каждый из нас может взойти к Богу через Его творение. По словам Александра Шмемана, «христианином является тот, кто, куда бы он ни смотрел, везде найдет Христа возрадуется с Ним»14. Разве каждый из нас не может быть христианином в этом смысле?
Одно из мест, где особенно легко практиковать «созерцание природы», это Святая гора Афон. И это может подтвердить любой паломник. Русский пустынник Никон Карульский (1875–1963) говорил: «Здесь каждый камень дышит молитвами». Рассказывают, что другой афонский отшельник — грек, чья келья находилась на вершине скалы, обращенной на запад, к морю, каждый вечер сидел на выступе скалы, наблюдая за закатом солнца. Затем он шел в свою часовню для совершения ночного бдения. Однажды у него поселился ученик, молодой монах с энергичным характером. Старец велел ему каждый вечер сидеть рядом с ним, пока он наблюдает за закатом. Через какое-то время ученик стал проявлять нетерпение. «Здесь прекрасный вид, — сказал он, — но мы любовались им вчера и за день до этого. В чем смысл ежевечернего наблюдения? Что вы делаете, пока сидите здесь, наблюдая за тем, как садится солнце?» И старец ответил: «Я собираю топливо».
Что он имел в виду? Несомненно, вот это: внешняя красота видимого создания помогала ему готовиться к ночной молитве, во время которой он стремился к внутренней красоте Царства Небесного. Обнаруживая присутствие Бога в природе, он мог потом без труда найти Бога в глубинах собственного сердца. Наблюдая за закатом, он «собирал топливо» — материал, который будет придавать ему силы в предстоящем вскоре тайном богопознании. Такой была картина его духовного пути: через создание к Создателю, от «физики» к «богословию», от «созерцания природы» к созерцанию Бога.
Есть такая греческая поговорка: «Если хочешь узнать правду, спроси глупца или ребенка». Действительно, часто юродивые и дети чувствительны к красоте природы. Раз речь зашла о детях, западный читатель должен вспомнить примеры Томаса Траэрна и Уильяма Вордсворта, Эдвина Мюира и Кэтлин Райн. Замечательный представитель христианского Востока — священник Павел Флоренский (1882–1937), который погиб как мученик за веру в одном из сталинских концлагерей.
«Признаваясь, как сильно он любил природу в детстве, отец Павел далее поясняет, что для него все царство природы делится на две категории феноменов: “пленительно благодатных” и “крайне особенных”. Обе категории привлекали и восхищали его, одни — своей утонченной красотой и духовностью, другие — загадочной необычностью. “Благодать, поразившая великолепием, была светла и чрезвычайно близка. Я любил ее со всей полнотой нежности, восхищался ею до судорог, до острого сострадания, спрашивая, почему я не могу полностью слиться с нею и, наконец, почему я не могу навсегда вобрать ее в себя или поглотиться в ней”. Это острое, пронзительное стремление детского сознания, всего существа ребенка полностью слиться с прекрасным предметом должно было с тех пор сохраниться у Флоренского, приобретая завершенность, выражающуюся в традиционно православном стремлении души слиться с Богом»15.
Красота святых
«Созерцать природу» означает не только находить Бога в каждой сотворенной вещи, но также, что гораздо глубже, обнаруживать Его в каждом человеке. Благодаря тому, что люди созданы по образу и подобию Бога, все они причастны божественной красоте. И хотя это относится к каждому человеку без исключения, несмотря на его внешнюю деградацию и греховность, изначально и в высшей степени это истинно по отношению к святым. Аскетизм, согласно Флоренскому, создает не столько «доброго», сколько «красивого» человека»16.
Это подводит нас ко второму из трех уровней сотворенной красоты: красоте сонма святых. Они красивы не чувственной или физической красотой, не красотой, которая оценивается светскими «эстетическими» критериями, а абстрактной, духовной красотой. Эта духовная красота, прежде всего, проявляется у Марии, Матери Божьей. По словам преподобного Ефрема Сирина (ок. 306–373), она — наивысшее выражение сотворенной красоты:
«Ты един, о Иисус, с Твоей Матерью прекрасны во всех отношениях. Нет в Тебе ни одного недостатка, Господь мой, нет ни единого пятна на Матери Твоей»17.
Следующими после Пресвятой Девы Марии красоту олицетворяют святые ангелы. В своих строгих иерархиях они, по словам святого Дионисия Ареопагита, представляются «символом Божественной Красоты»18. Вот что сказано об Архангеле Михаиле: «Твой лик сияет, о Михаил, первый среди ангелов, а красота твоя полна чудес»19.
Красота святых подчеркивается в книге пророка Исаии: Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир (Ис. 52, 7; Рим. 10, 15). На нее обращает особое внимание паломница Н. Аксакова, описывая встречу со святым преподобным Серафимом Саровским: «Все мы, бедные и богатые, ждали его, столпившись у входа в храм. Когда он появился в дверях церкви, взоры всех присутствующих устремились на него. Он медленно спустился по ступенькам, и, невзирая на легкую хромоту и горб, он казался и действительно был чрезвычайно красив»20.
Несомненно, нет ничего случайного в том, что знаменитое собрание духовных текстов XVIII века под редакцией святого Макария Коринфского и святого Никодима Святогорца, где канонически описывается путь к святости, названо «Philokalia» — «Любовь к красоте».
Литургическая красота
Именно красота божественной литургии в великом храме Святой Премудрости в Константинополе обратила русских в христианскую веру. «Мы не знали, где находимся — на небесах или на земле, — отчитывались посланники князя Владимира по возвращении в Киев, — …поэтому мы не в силах забыть эту красоту»21. Эта литургическая красота выражается в нашем богослужении посредством четырех основных форм.
Годовая последовательность постов и праздников — это время, воплощенное красивым.
Архитектура церковных зданий — это пространство, воплощенное красивым.
Святые иконы — это образы, воплощенные красивыми.
По словам отца Сергия Булгакова, «человек призван быть творцом не для того только, чтобы созерцать красоту мира, но и для того, чтобы выражать ее»; иконография — это «участие человека в преображении мира»22.
Церковное пение с различными напевами, построенными на восьми нотах, — это звук, воплощенный красивым: по словам святого Амвросия Медиоланского (ок. 339–397), «в псалме наставление соперничает с красотой… мы заставляем землю откликаться на музыку небес»23.
Все эти формы сотворенной красоты — красоты природы, святых, Божественной литургии — обладают двумя общими качествами: сотворенная красота диафанична и теофанична. В обоих случаях красота делает вещи и людей транспарентными. Прежде всего, красота делает вещи и людей диафаничными в том смысле, что она заставляет отличительную истину каждой вещи и ее суть светиться сквозь нее. Как говорит Булгаков, «вещи преображаются и светятся красотой; они раскрывают свою абстрактную суть»24. Однако здесь было бы точнее опустить слово «абстрактный», поскольку красота не является неопределенной и обобщенной. Наоборот, она «крайне особенная», как заметил молодой Флоренский. Во-вторых, красота делает вещи и людей теофаничными, так что через них светится Бог. По словам того же Булгакова, «красота — это объективный принцип мира, открывающий нам Божественную Славу»25. Таким образом, красивые люди и красивые вещи указывают на то, что лежит за их пределами, — на Бога. Через видимое они свидетельствуют о присутствии невидимого. Красота — это трансцендентное, ставшее имманентным. По словам Дитриха Бонхеффера, она «и запредельна, и пребывает среди нас»26. Примечательно, что Булгаков называет красоту «объективным принципом». Способность постигать красоту, как божественную, так и сотворенную, подразумевает нечто гораздо большее, чем наши субъективные «эстетические» предпочтения. На уровне духа красота сосуществует с истиной.
С теофанической точки зрения, красоту как проявление присутствия и силы Бога можно назвать «символической» в полном и -буквальном смысле этого слова. Symbolon (от глагола symballo — «свожу вместе» или «соединяю») — это то, что приводит в правильное соотношение и объединяет два различных уровня реальности. Таким образом, святые дары в евхаристии греческие отцы церкви называют «символами», но не в смысле простых знаков или визуального напоминания, а в том смысле, что они непосредственно и действенно представляют собой истинное присутствие тела и крови Христа. С другой стороны, святые иконы — тоже символы: они передают молящимся ощущение непосредственного присутствия изображенных на них святых. Это относится к любому проявлению красоты в сотворенных вещах: такая красота символическая в том смысле, что она олицетворяет божественное. Таким путем красота приводит Бога к нам, а нас — к Богу; это двусторонняя входная дверь. Поэтому красота, выступающая проводником Божьей благодати, действенным средством очищения от грехов и исцеления, наделяется священной силой. Вот почему можно просто провозгласить, что красота спасет мир.
Кенотическая (умаляющаяся) и жертвенная красота
Однако мы до сих пор не ответили на вопрос, поставленный вначале. Разве афоризм Достоевского не сентиментален и не далек от жизни? Что может противопоставить красота угнетению, страданию, мучению и отчаянию невинных людей в современном мире?
Вернемся к словам Христа: Аз есмь пастырь добрый (Ин. 10, 11). Сразу же после этого Он продолжает: Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Миссия Спасителя как пастыря облечена не только красотой, но мученическим крестом. Божественная красота, олицетворенная в Богочеловеке, спасительна именно потому, что это жертвенная и умаляющаяся красота, красота, которая достигается через самоопустошение и уничижение, через добровольные страдания и смерть. Такая красота, красота страдающего Раба, сокрыта от мира, поэтому о нем говорится:
«Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему» (Ис. 53, 2).
Тем не менее, для верующих божественная красота, хотя она и сокрыта от взора, все еще динамически присутствует в распятом Христе.
И исходя из крайней важности того, что Преображение Христа, Его Распятие и Воскресение по существу связаны друг с другом, как грани одной трагедии, нераздельной тайны, мы можем сказать без всякой сентиментальности и эскапизма, что «красота спасет мир». Преображение как проявление несотворенной красоты тесно связано с крестом (см. Лк. 9, 31)27. Крест, в свою очередь, никогда не должен отделяться от Воскресения. Крест выявляет красоту боли и смерти, воскресение — красоту за пределами смерти. Итак, в служении Христа красота объемлет и тьму, и свет, и уничижение, и славу. Красота, воплощенная Христом Спасителем и переданная Им членам тела Его, — это, прежде всего, сложная и ранимая красота, и именно по этой причине это красота, которая действительно может спасти мир. Божественная красота, так же как и красота сотворенная, которой Бог наделил свой мир, не предлагает нам путь в обход страданий. На самом деле она предлагает путь, проходящий через страдания и, таким образом, за пределами страданий.
Несмотря на последствия грехопадения и невзирая на нашу глубокую греховность, мир остается созданием Божьим. Он не перестал быть «совершенно красивым». Несмотря на отчуждение и страдания людей, среди нас все еще присутствует божественная красота, по-прежнему действенная, постоянно исцеляющая и преображающая. Даже сейчас красота спасает мир, и она всегда будет делать это. Но это красота Бога, который полностью объемлет боль сотворенного Им мира, красота Бога, который умер на кресте и на третий день победоносно воскрес из мертвых.
Перевод с английского Татьяны Чикиной по изданию Metropolitan Kallistos of Diokleia, “Beauty will save the world”, in: Sobornost, Vol. 30 (2008), 7–20. Первая публикация на русском — сборник Богословие красоты. Под ред. А. Бодрова и М. Толстолуженко. М., ББИ, 2013, с. 27–39.
Статья опубликована в альманахе современной христианской культуры «Дары», № 4, 2018 >>>
(Закажите печатное издание альманаха с фотографиями и иллюстрациями)
Примечания:
1 Достоевский Ф. Идиот, ч. 3, гл. 5.
2 Достоевский Ф. Братья Карамазовы, кн. 3, гл. 3.
3 “Religion and Art”, in E.L. Mascall (ed.), The Church of God, An Аnglo-Russian Symposium by Members of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius (London: SPCK, 1934), 175.
4 Cratylus, 416c.
5 Surprised by Joy: The shape of my early life (London: Geoffrey Bles, 1956), 22–24.
6 Confessions 10:27.
7 Имеется в виду братство св. Олбана и св. Сергия.
8 On the Divine Names 4:7, PG 3:704A; ed. B.R. Suchla, Corpus Dionysiacum I, Patristische Texte und Studien 33 (Berlin/New York: Walter de Gruyter,1990, 151–152); tr. Colm Luibheid and Paul Rorem, Pseudo-Dionysius: The Complete Works, The Classics of Western Spirituality (New York/Mahwah: Paulist Press, 1987), 77.
9 In Librum Beati Dionysii De Divinis Nominibus Expositio, ed. Ceslaus Pera (Тurin/ Rome: Маrietti, 1950), §349, 114.
10 On the Divine Names 4:7 (PG 3:701С; ed. B.R. Suchla, 151); tr. Luibheid and Rorem, 76.
11 Unguarded Thoughts (London: Collins/ Harvill Press, 1972), 66.
12 Sacraments and Orthodoxy (New York: Herder and Herder, 1965), 73–74.
13 Unguarded Thoughts, 76.
14 Sacraments and Orthodoxy, 142.
15 Victor Bychkov, The Aesthetic Face of Being: Art in the Theology of Pavel Florensky (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1993), 18/ Виктор Бычков, Эстетический лик бытия. (Умозрения Павла Флоренского). М. Знание, 1990. Серия «Эстетика». № 6. 64 с.
16 Bychkov, The Aesthetic Face, 32/ Там же.
17 Carmina Nisibena, ed. G. Bickell (Leipzig, 1866), 122
18 Оn the Celestial Hierarchy 3:2, PG 3: 165B; ed. G. Neil and A.M. Ritter, 18; tr. Luibheid and Rorem, 154
19 8 November, Great Vespers, sticheron 2 on Lord, I have cried; tr. Isaac E. Lambertsen, The Menaion of the Orthodox Church, vol. 3, November (Liberty, T.N.: St John of Kronstadt Press, 1998), 59.
20 Цит. по: Archimandrite Lazarus Moore. St Seraphim of Sarov: A Spiritual Biography (Blanco, TX: New Sarov Press, 1994), 144.
21 The Russian Primary Chronicle, tr. S.H. Cross and O.P. Sherbowitz-Wetzor (Cambridge, MA: Mediaeval Academy of America, 1953), 111.
22 «Religion and Art», 191.
23 Commentary on the Psalms 1:10–11 (PL 14:925–6).
24 «Religion and Art», 177.
25 «Religion and Art», 176.
26 Letters and Papers from Prison: The Enlarged Edition, ed. Eberhard Bethge (London: SCM Press), 282.
27 См.: Kallistos Ware, «La transfiguration du Christ et la souffrance du monde”, Service Orthodoxe de Presse 322, (November 2007), 33–37.