20 августа близ греческого острова Порос случилось непоправимое: вертолет, зацепившиcь за кабель, упал в море. Всего в 50 метрах от берега. На борту были пилот и два пассажира. Все они погибли.
Это крушение – не просто гибель трех людей, что, безусловно, и так является невосполнимой потерей. Гибель одного из этих людей оказалась «тихим бедствием» общенационального масштаба. Тихим бедствием, которое большая часть страны и даже жителей Москвы толком не осознало.
Ушел из жизни Михаил Абрамов – основатель Музея русской иконы.
Когда человек умирает, некрологи начинают пестрить общими фразами, статистикой, наспех собранными фактами. Очень больно и странно было читать эти некрологи: списанные из официальной биографии и из каталожных статей фразы, выведенные в общий – непростительно общий – текст, за которым не чувствуется живого человека.
И я совершенно не претендую на то, что сейчас предоставлю миру «правильный» некролог. Я не претендую на особую близость к Михаилу Юрьевичу. Нет. Это было бы амикошонством. Но мне выпала огромная радость и честь: работать с ним, общаться с ним на протяжении нескольких лет, видеть его в разных ситуациях. И это даже не некролог, а просто воспоминание о человеке, который очень много сделал для мировой культуры, для России, для огромного числа людей, включая меня. Это очерк о человеке, которого мне посчастливилось знать. И о созданным им Музее.
Музей русской иконы родился в 2006 году благодаря идее замечательного отечественного ученого – Ирины Александровны Шалиной, благодаря усилиям Николая Васильевича Задорожного, взявшего на себя все труды по выстраиванию дипломатических «мостов», тратившего часы и годы на поездки. Но, прежде всего, Музей русской иконы родился благодаря открытому сердцу Михаила Юрьевича Абрамова, благодаря его желанию услышать, понять, благодаря его щедрости и его интуиции. Это был невероятный тандем, триумвират фанатика науки, талантливого администратора-коллекционера и невероятно интуитивного и щедрого «ктитора», готового отдавать все ради музея. И не просто отдавать, а работать и буквально – жертвовать. Не ради своего имени, не ради «поблажек» в бизнесе или налоговых льгот, кои наше государство никогда не предоставляло… Нет. Все, что делал Абрамов, было ради самого Музея. Ради современной русской культуры, ради возрождения всего того лучшего что было, есть и должно быть в России.
В то время как десятки подобных затеи скатывались в сторону пустого PR-a, пафоса, распада и распродажи с молотка – Музей русской иконы не просто держался, а был одним из самых быстро развивавшихся музеев России. Несмотря на свою молодость, на то, что он был плодом усилий горсти энтузиастов, Музей русской иконы за несколько лет стал крупнейшим частным собранием восточно-христианского искусства, ковчегом – убиравшим с мирового рынка уникальные шедевры русской, греческой, эфиопской иконописи и сохранявшим эти шедевры в рамках открытой, общедоступной коллекции. Ежегодно проводились новые атрибуции, вводились в научный оборот новые памятники, издавались каталоги, создавались оригинальные выставочные проекты. Это был первый в России частный музей, принятый в ICOM (Международный совет музеев при ЮНЕСКО), первый отечественный частный музей с которым на равных сотрудничали и которому доверяли российские государственные и европейские музеи. Этот музей вернул в Россию – в том числе государственным музеям – плеяду уникальных, казалось бы, навсегда утраченных, вывезенных за рубеж памятников. Это был музей, который Михаил Юрьевич – с момента его основания в 2006 году – содержал исключительно на свои средства и от которого не искал никакой материальной выгоды или даже «компенсации»; посещение, экскурсии, лекции, концерты, выставки – все было бесплатно для всех, вне зависимости от гражданства и достатка.
Тысячи людей посещали музей. Людей самых разных. И те, кто приходили к нам – на лекции, на концерты, на выставки просто для того, чтобы пройтись по залам – искренне благодарили. Со светом в глазах. Благодарили за музей. Но даже они не понимали, какой труд стоит за этим оазисом на Гончарной улице.
Михаил Юрьевич всегда производил очень стремительное впечатление. Он быстро входил в помещение, быстро говорил, начинал и заканчивал встречи, переговоры, переходил с темы на тему. Однако это всегда было скромно и по делу, без грозного и «барственного» выхода человека, которому на самом деле принадлежал и музей, и бизнес-центры, в которых мы с ним встречались.
Он всегда был подтянутый, загорелый, бодрый. Даже когда работал с температурой за 38 и воспалением легких.
Он умел слушать и с уважением принимал чужое мнение. Переживал, когда был неправ, и мог – в той или иной форме – это признавать. Жесткость той среды, в которой он вращался, никогда не перекрывали его совесть и его сердце.
Он по-детски радовался грамотам, церковным наградам, премиями, которые ему присуждали. А надо сказать, что ими его не особенно баловали. В то время как сотни депутатов, сенаторов, губернаторов, партийных деятелей имели по несколько церковных и государственных орденов, у Михаила Юрьевича не было ни одного ордена РФ.
Зная его, могу сказать, что, если бы наше государство все же «расщедрилось» при его жизни, он был бы счастлив. Не с точки зрения «эго», «статуса» … А скорее потому, что он, правда, с простой детской радостью относился к этим вещам. Как ребенок нацепивший дедов китель с орденами или получивший спортивную медаль. Наверное, поэтому он – также с детской отдачей – любил генералов и ветеранов вообще.
При этом он всегда сохранял скромность. Даже застенчивость.
Когда – во время торжественных церемоний – его начинали хвалить за музей, выражать благодарность, превозносить – он всегда терялся и краснел. Пару раз – на моих глазах – прятал скупую слезу.
Он повторял «мне не нужно, чтобы этот музей носил мое имя. Когда мне об этом говорят, в том числе как о посмертном варианте, я всегда говорю – не надо. Мне нужно чтобы просто был этот музей. Музей русской иконы».
Другая его фраза, на которую он неожиданно набрел, когда записывали с ним интервью, и которую он потом искренне и честно повторял: «мы лишь временные хранители этих вещей».
Вечность. У него было очень сильное, трепетное, интуитивное чувство того, с чем действительно подступать к вратам Вечности. Именно поэтому, наблюдая за ним семь лет, я не видел более светлых и радостных у него глаз, чем когда он смотрел на своих детей и на залы своего Музея.
Когда он говорил о Музее, он загорался. Сколько сохранилось фотографий, на которых он стоит – с широко-раскрытыми от волнения, искрящимися глазами, с руками, воздетыми в позе «Оранта», словно пытаясь объять что-то необъятное… Мы добродушно посмеивались над этой его манерой тогда. А он это делал искренне: он просто не мог говорить иначе. Потому что его переполняло ощущение чего-то большего, ощущение огромного и светлого детища, которое через его усилия входило в этот мир.
Кстати, о его рассказах… Любое воспоминание о Михаиле Юрьевиче будет неполным без воспоминания о его гоголевской, почти мюнхгаузенской искре. О его историях, которые от повторения к повторению становились все краше и невероятней. Он влюблялся в миф, но искренне и безвозмездно отдавал большую часть своего дохода, чтобы воплощать в этом мире настоящую сказку: сказку, потому что люди, приходившие в музей, чаще всего просто не могли поверить в то, что вместо распадавшихся аварийных зданий на Гончарной улице, напротив Афонского подворья, возник удивительный и современный музей, таящий великолепные памятники, погружавший их в волшебный мир христианского Востока: от икон древнего Новгорода, Пскова, Ростова, Москвы, Вологды до далеких и ярких памятников христианской Эфиопии, от греческого иконостаса до старообрядческой молельни. Этот музей не требовал ничего – кроме времени и внимания тех, кому это искусство было небезразлично. Это был Музей, в котором отдохновение получали и люди, и памятники.
А еще – Михаил Юрьевич не переносил хамства. Сановного, чиновного… Никакого. Помню, во время открытия выставки в Госдуме он услышал «устало-пренебрежительный» отзыв об иконах со стороны одного из известных политиков: в этих случаях он не краснел, а скорее вытягивался и белел. И глаза становились грустными-грустными. Также было, когда он видел достаточно странное отношение некоторых высоких гостей к «безопасности» и телохранителям, с которыми они считали необходимым передвигаться даже по Музею… Сам Михаил Юрьевич никогда с «амбалами» не ходил. И здоровался всегда. И с охранниками, и с уборщицами. И с учеными. И с политиками. Со всеми.
Когда я покидал музей, мы встретились с Михаилом Юрьевичем, чтобы поговорить, поужинать – он ехал после встречи с одним клириком. И не он меня, а я его добрые полчаса успокаивал: а он – с неподражаемым своим юмором, и с болью в глазах, «в лицах» пересказывал сцену странного и хамоватого приема. Это правда один из немногих людей, у которых была подлинная и врождённая аллергия на хамство.
Именно поэтому он всячески избегал любых конфликтов, любых – больших и малых – разборок с взаимными обвинениями, доказательствами собственной правоты. Не мог. В этом была и его сила, и его слабость.
В нем было достоинство, была сила, но не было дурного барства.
Музей наполняли разные люди. В дни открытия выставок в атриуме музея толпились и партнеры по бизнесу, и чиновники, и клир… Но первенствующее место занимали ученые. Перед учеными – как перед генералами – он испытывал искренний, потаенный трепет. Ученые и музейщики: Лев Исаакович Лифшиц, Елена Яковлевна Осташенко, Лидия Ивановна Иовлева, Наталия Николаевна Шередега, Татьяна Юрьевна Царевская, Татьяна Евгеньевна Самойлова… Эти люди многие годы были рядом с музеем, поддерживая его, и для Михаила Юрьевича их голос был важнее голоса кабинетных властей, политических расчетов, давления элит.
И здесь вновь вступала в свои права его интуиция. Ведь, положа руку на сердце, он большинства их работ не читал. Но в скромном внешне облике людей, лишенных какой-либо «мирской» власти и денег, он видел титанов, перед которыми искренне преклонялся и к которым прислушивался. Они ему были интересны. По-человечески.
Его тяга к общению с учеными прямо перекликалась с его искренней тягой к древним памятникам: понимая необходимость пополнения коллекций XVII-XIX веков, он отдыхал душой смотря не на роскошные овчинниковские и гурьяновские оклады, не на мстерские и палехские изыски, а на древние памятники – на ростовского Георгия на голубом коне, на чудом не уничтоженные огнем иконы рязанского Деисуса, на череду псковских икон – в том числе на суровый взор иконы прп. Афанасия Великого (сер. XV века), на свою любимую икону – Богоматери Гликофилусы из мастерской Ангелоса Акотантоса (Крит, XV век), единственный памятник который Михаил Юрьевич приобрел не советуясь ни с кем из музея, и подобного которому нет в отечественных коллекциях.
Иконы и ученые. Не налоговые льготы и PR. Ученые и памятники – вот, что его действительно волновало.
Только важно помнить и понимать, что этот музей не возник из «излишек богатенького человека, решившего отмолить грехи». Михаил Юрьевич бился, как мог в очень непростой сфере – московской недвижимости, строительства, аренды. Он никогда не входил в списки самых богатых и могущественных – даже по Москве. Но и в самые кризисные периоды, сокращая расходы, сотрудников в своих фирмах, экономя на себе и своей семье, он никогда не позволял себе экономить на музее, на пополнении собрания, на научной работе, выставках, подготовке каталогов.
И при всей важности Музея русской иконы, это был не единственный благотворительный проект Михаила Юрьевича: он участвовал в восстановлении, строительстве, украшении храмов. Храм на Преображенской площади – московский храм российской гвардии, взорванный Хрущевым, поднялся из руин лишь, когда Абрамов присоединился к проекту, несмотря на обилие других «именитых» ктиторов. Он помогал фонду «Подари жизнь», жертвовал на многие другие организации.
Без него сотни памятников русской иконописи – проданных большевиками или контрабандистами – никогда не вернулись бы в Россию. Сотни и тысячи уникальных памятников древнерусского, византийского, греческого, эфиопского искусства украшали бы сейчас чьи-то гостиные, лежали бы в антикварных галереях или на развалах: вместо этого, они собраны и сохранены в открытом и бесплатном музее.
Через Музей русской иконы утраченные и украденные памятники вернулись в государственные музеи Ростова Великого, Великого Устюга, Вологды, Мурома. Целый ряд уникальных реликвий были пожертвованы им – не из музейного фонда, что было бы этически немыслимым, но с мирового рынка – в храмы. От иконы Богоматери Одигитрии XVII века отданной в храм Св. Софии в Афинах до Частицы Истинного Креста Господня переданной в Афонское подворье Москвы. В последние годы мы с ним работали над пожертвованием иконы Св. Николая конца XVI века в St. Nicholas National Shrine в Нью-Йорке, в храм посвященной памяти погибших во время терактов 11 сентября. Это дарение, дай Бог, нам удастся совершить уже посмертно, в память о нем.
Все оборвалось сейчас. Но то, что уже было сделано достойно не просто истории, но вечности.
Цитируя Леонарда Коэна “And even if it all went wrong, I’ll stand right here before the Lord of Song, with nothing on my tongue, but Hallelujah”. («И даже если все пошло не так, я буду стоять пред Господом, воспевая, не имея на языке ничего, кроме Аллилуйя»)
Это может сказать каждый человек, кто соприкоснулся с Музеем русской иконы и его основателем.
Каким я запомню Михаила Юрьевича?
Живым и радостным. Потому что мало кто так умел любить жизнь и отдавать жизни всего себя. Потому что никто из нас не сможет принять то, что его с нами нет. Он есть. Просто теперь на небе. И боль – боль, раздирающая сердце до крови – в том, что до него теперь не дозвониться и с ним не встретиться. Что во плоти он не пройдет больше по залам своего музея. И что мы больше не увидим его наполненных гоголевской искрой глаз и не услышим его историй.
Он не был ученым, но сделал для науки больше сотен специалистов, кандидатов и докторов наук. Он не был художником, но для художественной жизни столицы и всей страны сделал больше большинства галерей, гильдий и сообществ. Он не был олигархом или государственным деятелем, но сделал больше для России и русской культуры, чем большая часть олигархов и государственных деятелей. Потому что вместо того, чтобы соревноваться с другими предпринимателями в приобретении предметов роскоши он покупал псковские иконы, которые не «прятал» у себя, но содержал в общедоступном музее, и на которые – усталым, после рабочего дня и закрытия музея – приходил в тиши полюбоваться. Вместо того чтобы купить виллу или яхту он отдавал свои средства на восстановление и оборудование аварийных зданий в центре Москвы, превращая их в музейный комплекс. Вместо скапливания богатств он собирал удивительные памятники, созерцанием которых и любовью к которым он безвозмездно делился с миром, со всяким входящим в его музей – от членов королевских домов до наших золотых бабушек, до которых никому нету дела.
Он создал музей в Москве и – торопясь в Москву – невольно улетел на небо, в вечность.
Сергей Брюн
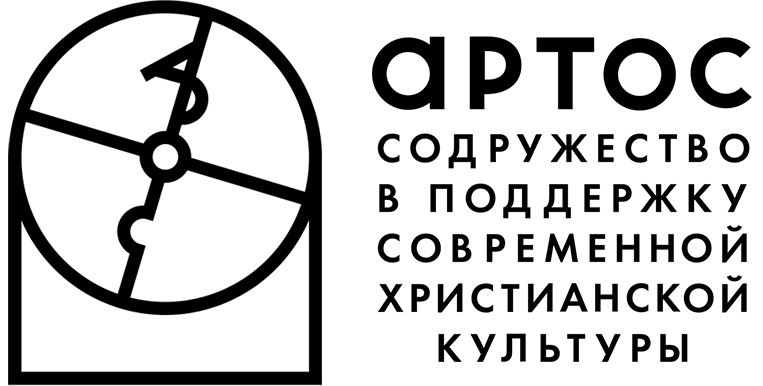














Спасибо за рассказ о Человеке! Наверное, и музей русской иконы производит такое сильное впечатление не только благодаря уникальным произведениям русской культуры, но и мощью, силой и обаянием личности этого потрясающего Челоаека, Михаила Юрьевиса Абрамова. Светлая ему память!