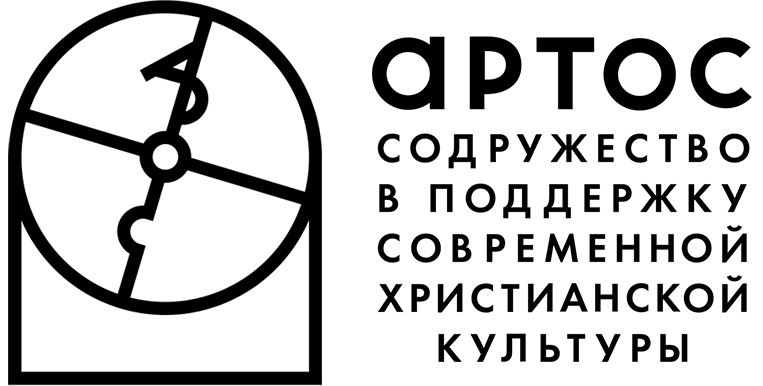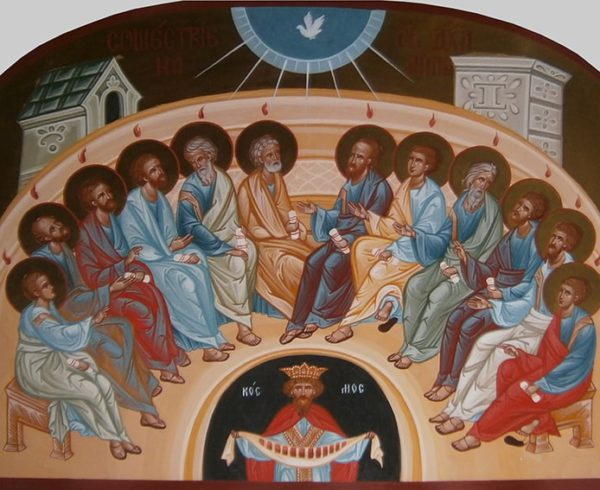«Кстати, две тысячи лет назад апостолы, по сути, три года были
самыми настоящими новоначальными послушниками у Иисуса Христа.
Их главным занятием было следовать за своим Учителем
и с радостным изумлением открывать для себя Его всемогущество и любовь»
Митр. Тихон (Шевкунов), «Несвятые святые»
В Символе Веры исповедуется вера во Единую, Святую, Кафолическую и Апостольскую Церковь. Святость Церкви это объективная, таинственная, сакраментальная, христологическая, благодатная святость Тела Христова. Как об этом пишет в своем «Катехизисе» Филарет Дроздов, «Церковь святая, потому что освящена Господом Иисусом Христом через Его страдания, его учение, Его молитву и через Таинства»[1].
Однако, Филарет не договаривает. Ведь святость Церкви это и святость святых. Это святость в Церкви. Это то, каким образом Церковь понимает человеческую святость, каким образом Церковь, и те, кто в Церкви, видят путь, следуя которому, святости можно достичь.
Имеется в виду святость субъективная, личная или корпоративная — святость Церкви, как общества верующих. Что же такое святость в Православии? Святость в Православии – святость монашеского типа. Это святость самоограничения, утеснения себя в пище и питье, человеческих потребностях, возведенная в эталон и идеал. Девизом такого миропонимания является фраза: «Свет монахам – ангелы, свет мирянам – монахи».
Важным элементом герменевтики святости является то, каким образом бывает прочитана евангельская история, назидания Христа ученикам, библейские тексты и наставления. В Православии, они обычно воспринимаются, как аскетическое повествование. Сознанию большинства верующих Апостолы предстают безбрачными аскетами, Иосиф именуется «мнимым Отцом Господа», а Богородица – Просветительницей Афона.
Опыт преподавания курса «Введение в Православие» в западных учебных заведениях привел меня к убеждению, что традиционная дисциплина сравнительного богословия, в том виде, в каком она сохраняется в богословских учебных заведениях, себя изжила. Развитие гуманитарных и философских дисциплин, новые исторические данные вполне ясно указывают на то, что догмат и практика существуют как динамическая, постоянно меняющаяся реальность, тогда как методология компаративистики предполагает статику, а потому обрекает сравнительное богословие, как научную дисциплину, на теологическую стерильность и безнадежный анахронизм.
Другое дело, что каждая христианская Традиция — Православие, Католичество, Протестантизм — обладает базовыми, с трудом поддающимися видоизменению свойствами, герменевтическими характеристиками, топосами, которые необходимо выявить и по-настоящему изучить. Для обозначения того, что святость в Православии есть именно аскетическая, монашеская святость, я обычно привожу несколько аргументов:
- помимо мучеников, большинство святых в богослужебном календаре Православной Церкви представлены монашествующими; аскетическая святость превалирует над этической;
- на уровне сознания верных (т.н. sensus fidelium), а также в современных православных богословских и нравоучительных трудах монашеский постриг приравнивается к таинствам;
- важным элементом сознания верных является квазидогматическое убеждение, что мир стоит, существует и спасается молитвами монашествующих;
- начиная с эпохи после иконоборчества веро- и нравоучительный авторитет Церкви, то есть способность возвещать, говорить и проповедовать от имени Церкви находится в руках монахов;
- иерархическое начало в жизни Церкви канонически спаяно с монашеством — только монашествующие могут быть епископами;
- в противоположность, и даже в прямом противопоставлении этической стороне предпасхального времени: благотворению, служению и диаконии, – основным столпам Великопостного Времени Древней Церкви — всецело посвящено самоограничению в пище и питии;
- из монашества как «одиночества в сети», только состояния, своего рода предельного выражения ad hoc (здесь и сейчас), образа жизни, добровольного принятой на себя бедности, без-властия, и воздержания, в итоге, сформировался особенный, де факто привилегированный институт, статус, который мог быть утрачен только через открытое отречение.
В этом смысле, совершенно логично, что три воскресенья Святой Четыредесятницы посвящены аскетической монашеской тематике. В четвертое воскресенье Великого Поста Церковь чтит память Иоанна Синайского[2], прозванного так по названию его аскетического произведения — Лествицы. Монашеский тип святости представлен в Лествице с предельной, скрупулезной, безоговорочной точностью.
Памяти Иоанна соответствуют и чтения из Апостола и Евангелия, которые являются обычными для дней памяти преподобных святых. При этом, у этого четвертого великопостного воскресного дня есть и основное чтение, сохранившееся в Уставе еще с того времени, когда особенного воспоминания Иоанна в Великий Пост еще не существовало. Это чтение об исцелении бесноватого отрока, отец которого произнес уникальные даже для евангельского текста по своей драматичной неразрешимости слова: «Верую, Господи! Помоги моему неверию» (Мк. 9, 17-31).
Памяти Иоанна Лествичника в Великий Пост мы обязаны последнему периоду в истории Константинопольской византийской Церкви, XIII-XIV веках, когда в богослужебный великопостный устав было внесено это воспоминание[3]. В отличие от дня памяти Григория Паламы во второе великопостное воскресенье, с которым современное церковное сознание ошибочно связывает полемику с католичеством, воспоминание Иоанна Лествичника давно уже утратило разъединительные контексты – первоначально оно было направлено против оригенистов и монофизитов – и стало объединительным. «Наследие Иоанна» одинаково важно и дорого и для Востока, и для Запада.
«Когда деревья были большими» и я учился в Московской Духовной Семинарии, день памяти Иоанна отмечался особенно торжественно. Ведь семинарский храм назван в честь Лествичника, и в престольный праздник тогда служились особенные настоящие, длиной в ночь, всенощные бдения. Помнится также, что, по средам, после акафиста, с амвона читалась «Лествица». Тогда, в эти мгновения, во время чтения, нам представлялся ветхий деньми подвижник, который, подобно Нестору Летописцу, на старинных картинах, записывал на скрижали древнюю аскетическую мудрость.
Согласно житию, Иоанн начал свой монашеский путь на Синае в 16 лет. После сорока лет отшельничества в пустыне Фола, Иоанн был избран игуменом монастыря святой Екатерины. Нужно понимать, что Синай того времени представлял собой Град Божий, где условная тысяча монахов – большая демографическая величина для того времени – пребывала в монастырях, скитах и разных формах отшельничества. Поэтому само понятие «пустыня» в том, не современном нам контексте, было другим. Монашеский мегаполис Египетской Церкви к тому времени окончательно определился в своем отторжении Халкидонского Догмата, а потому Синайская Пустыня и Гора, были — по отношению к Унии Константинопольской и Римской Ортодоксии того времени — чем-то вроде «острова Крыма» по отношению к большевистской России на последнем этапе Гражданской войны. Согласно истории, именно в этом контексте, а согласно житию, по просьбе игумена соседнего Раифского монастыря Иоанна, синайский игумен и написал «Лествицу». Подобно Моисею, говорится в Житии, Иоанн начертал на скрижалях своей книги древнюю мудрость монашеского Египта. Аналогия с освобождением этой мудрости из «монофизитского плена» предоставляется на усмотрение читателя.
«Всякий согласится, что тридцатилетний возраст есть начало мужского возраста, который продолжается до сорокового года; с сороковых же и пятидесятого годов начинается уже преклонный возраст, в котором учил наш Господь, как свидетельствует Евангелие (…) и Иоанн. Кому же должно будет более давать веры?», — в этом своем знаменитом отрывке из труда «Против Ересей» (2;5), Ириней Лионский (130-202) утверждает, что Господь Иисус был распят в возрасте, который тогда считался преклонным.
Иоанн вряд ли читал Иринея, поэтому его «Лествица», согласно общепринятому числу лет Господа Иисуса до выхода на проповедь, состоит из тридцати глав. При этом, в этих тридцати главах зашифровано совершенно иное деление – седмеричное — по числу главных страстей. Эта система восходит к Евагрию Понтийскому (345-399). В ходе богословских споров, предшествовавших V Вселенскому Собору, Евагрий был осужден за оригенизм. Поэтому Иоанн Синайский, заимствуя аскетическую доктрину Евагрия, его учение о семи злых духах, неоднократно осуждает этого великого теретика древнего монашеского аскетизма, как «еретика, безумного и одержимого демоном».
Уход великих Отцов Церкви порою знаменовал собой окончание определенной эпохи. Кончина Златоуста (349-407), низложенного с константинопольской кафедры рукой Александрийского Патриарха, была для того времени зловещим предзнаменованием, означавшим, что в ближайшие десятилетия Александрия будет господствовать в восточной половине христианского мира, своей властной монополией в Церкви нарушая равновесие сил и гармонию противоречия христологических учений. Августин скончался 28 августа 430 в осажденной вандалами Римской Африке. Его уход воспринимался, как конец Античности. Своеобразная уникальность Иоанна Лествичника Синайского в том, что нам не удается однозначно установить его точную датировку.
Неопределенность датировки биографии Иоанна позволяет нам гипотетически перемещать его не только из поколения в поколение, но и путешествовать таким образом во времени, делая автора «Лествицы» современником совершенно разных, неповторимых и уникальных событий и личностей.
Первый вариант датировки (525-595/605) превращает Иоанна в современника Папы Григория Римского (540-604), Апостола Англии Августина (+604), и даже императора Флавия Петра Савватия Юстиниана (483-565), вошедшего в историю под именем Юстиниана Великого. Второй вариант (579-649) делает Иоанна современником Мухаммеда (571-632) и Праведных Халифов (632-661), свидетелем арабского завоевания Сирии, Палестины и Египта (634-640). А третий (+680), наиболее поздний вариант датировки, превращает Иоанна Лествичника в современника Максима Исповедника (580-662), свидетеля монофелитских споров, и безоговорочного торжества Империи Омейядов над Восточной Христианской Империей.
Древние монахи-подвижники, учителя и ученики Иоанна, далекие и близкие основатели и продолжатели монашеских движений христианской древности думали преобразить мир. Но мир, неожиданно и мгновенно, преобразился сам.
В своем трактате «О Девстве» Григорий Нисский (335-394) писал, что тотальное безбрачие человечества не только не опасно, но и является идеалом. Ведь тогда род человеческий пресечется, это вынудит (sic!) Господа Иисуса вернуться вновь. Григорий был не одинок. Это были времена дон кихотов, сражавшихся с ветряными мельницами бесконечных демонских козней, веривших, что за ними – анархистами, бунтарями и романтиками во Христе – будущее. По их убеждению, Христианство вот-вот должно было охватить собою всю землю, а они, «отцы-пустынники и жены непорочны» будут призваны придать ему аскетические монашеские контуры. Но наступало иное время.
Победа Императора Ираклия над Персидской Империей в 628 году обернулась катастрофой. Спустя всего несколько лет огромные территории христианской Африки и Ближнего Востока были заняты арабскими завоевателями. Аскетическая глобализация мира была прервана. Чтобы остановить стремительное проникновение новых завоевателей во все уголки Вселенной, Империя повсеместно установила карантинные блокпосты[4]. Всем, и синайскому игумену Иоанну, казалось, что через краткое время все вернется на свои места. Но они ошибались. Мир уже не мог стать прежним.
иерей Августин Соколовски
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prostrannyj-pravoslavnyj-katekhizis/2_12.
[2] Благодарю д-ра теологии Максима Венецкова (Лейвен, Фландрия, Бельгия) за помощь в контекстуализации связанного с Иоанном Лествичником материала. Максим Венецков является уникальным специалистом по «Лествице» преподобного Иоанна. Настоятельно рекомендую всем желающим обращаться к его научным трудам и публикациям. Также выражаю благодарность профессору, декану богословского факультета Университета Киля в Германии, за помощь в датировке биографии преподобного Иоанна.
[3] Возможно, память Иоанна была внесена в богослужебный календарь загадочным константинопольским клириком Никифором Каллистом Ксанфопулом (1268/1274-1328), историком и литургическим поэтом, по одной из версий родившимся в 1274 году – в год смерти Фомы Аквинского.
[4] Ср. Джон Хэлдон, История Византийских Войн, Вече 2007, 331-332.