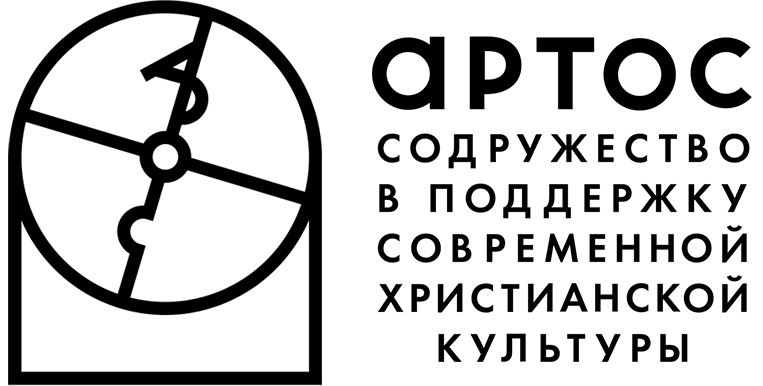Далеко не всё происходящее в Церкви нас радует. Что-то настораживает, что-то смущает. Кто-то свои размышления тщательно скрывает и не делится ими даже с близкими людьми. Кто-то наоборот, смело и резко выплескивает их в социальных сетях и публицистике. Разговор наших собеседников интересен прежде всего тем, что в нем ясно звучит стремление осмыслить реалии церковной жизни, наметить новые подходы к описанию самосознания Православной Церкви.
Диалог главного редактора альманаха «Дары» Сергея Чапнина с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым.
Сергей Чапнин: В последние несколько лет у меня складывается впечатление, что наступил кризис, который я бы в первую очередь назвал кризисом церковного языка (курсив — С.Ч.). Это довольно острое и глубокое переживание. Дискуссии последних лет об использовании русского языка в богослужении — лишь одно из его проявлений и далеко не самое важное. Если формулировать кратко, то я бы выделил две основные проблемы. Во-первых, за редким исключением Русская Православная Церковь не смогла использовать язык Евангелия для диалога с внешним миром. Здесь я имею в виду и государство, и общество. Церковная иерархия решила не рисковать и в желании быть понятной предпочла использовать чуждый ей язык секулярного общества — говорить о патриотизме, истории и проблемах современного мира, используя те понятия и идеологические конструкции, которые удобны государству. Язык Евангелия стал выполнять не содержательную, а исключительно декоративную функцию. Мне это кажется парадоксальным, так как возникает очевидный смысловой разрыв: на словах Церковь декларирует приверженность традициям, а на практике довольно легко от них отказывается ради того, чтобы быть более понятной внешнему миру. У вас нет такого ощущения?
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев: Каждый раз, когда мы говорим о наступившем кризисе, то невольно предполагаем, что кризису предшествовал период поступательного развития или полноценного бытия. Но в том то и дело, что, говоря о нашей Церкви, нам трудно это утверждать. Очень краткий и, главное, отстоящий от нас уже более чем на столетие, период в истории нашей Церкви мы могли бы назвать таким полноценным, живым, созидательным, творческим, устремленным в будущее. Это время Поместного Собора 1917-1918 годов и предшествующее ему десятилетие. Церковь, впервые получив свободу, пыталась осознать себя в этих новых условиях, понимая, что многое необходимо менять. Отсюда и те реформы, которые готовились Собором, и реформы внутреннего устройства, и реформы богослужения, и духовного образования, и даже календаря.
Этот период оборвался, не успев толком начаться.
Когда уже в начале 90-х годов прошлого века наша Церковь опять обрела свободу, казалось, первое, что она сделает, это продолжит то, что было начато на том историческом Поместном Соборе. И намерения вроде были, но этого не случилось.
Возможность экстенсивного развития (возрождение храмов и монастырей, присутствие во всевозможных областях общественной жизни) отодвинуло на второй план, если не дальше, проблемы внутренней жизни Церкви. На какое-то время показалось, что этих проблем нет. Да и откуда им взяться, если мы наследники тысячелетнего христианства на Руси. Мы так богаты, что нам бы только храмы вернуть — и мир будет осчастливлен нашими сокровищами. Такое настроение, своего рода эйфория, тогда была у многих, особенно у неофитов. А таковых было большинство. Мне вспоминаются слова протоиерея Александра Меня, которые он сказал в конце 80-х в ходе одного из своих публичных выступлений: «Если мир сейчас протянет нам руку, боюсь, как бы мы не протянули ноги». Вы говорите о «языке Евангелия для диалога с внешним миром», а у меня такое ощущение, что на этом языке мы не научились говорить не только с внешним миром, но и друг с другом. Никогда не забуду яркий эпизод из моей жизни в семинарии. Это было на лекции по истории Церкви, которую нам читал достойный и уважаемый московский протоиерей. Этой историей он не очень интересовался, поскольку по образованию был искусствовед. Но один период этой истории его буквально вдохновлял. Конец XV века, борьба с ересью жидовствующих. Он очень пламенно и вдохновенно рассказывал нам, семинаристам, какой молодец был прп. Иосиф Волоцкий, когда просил великого князя казнить еретиков. Преподаватель при этом всячески напоминал, что ересь эта не канула в историю. Мельком он упомянул и про прп. Нила Сорского, который по вопросу казни еретиков противостоял прп. Иосифу.
Хорошо зная эту историю и желая, чтобы другие семинаристы услышали ее полностью, я спросил лектора: «Какие были аргументы у прп. Нила против казни еретиков?» Преподаватель был очень раздражен моим вопросом, но все же ответил: «Какие аргументы? Ну, на Евангелие он ссылался, но…»
Язык Евангелия давно у нас под подозрением. Он же универсальный. На нем кто только не говорит: и баптист, и светский гуманист может вспомнить, и граф Толстой его любил. А наш язык — это язык святых отцов, язык предания. Но дело в том, что и этот язык так толком и не привился, ибо он требует навыка. А главное — без Евангелия его не понять.
И остается язык мира сего, приправленный православной мифологией. На таком языке можно говорить внутри Церкви, и даже очень удобно, ибо такой язык легко переходит в идеологию. А она, как известно, намного эффективнее сплачивает ряды, чем какое-то Евангелие.
И с миром на таком языке говорить проще, ибо это мирской язык. «Свои; чужие; империя зла; империя добра; сплотимся вокруг; враг не пройдет.» Многие в мире ждут от Церкви такого языка и приветствуют его, он им понятен. Многие, но далеко не все. Нужны ли нам эти другие — те, кто хочет услышать от нас Евангельский язык?
Когда 30 лет назад было очевидно, что времена меняются и Церковь входит в новую, небывалую для нее эпоху, отец Александр Мень говорил, что главная задача, которая сейчас стоит перед нами, это не реформа богослужения, устава и так далее. Это вещи, несомненно, очень важные, и до них должно дойти время. Самое главное — это евангелизация как народа, так и духовенства.
За 30 лет никаких реформ не случилось. Произошла ли евангелизация? Наверное, не мне судить. Но если семь лет назад в Прощеное воскресение просьба тысяч прихожан о прощении несомненно провинившихся девушек была объявлена провокацией, то это о чем-то говорит.
Сергей Чапнин: Вернусь к проблеме кризиса языка. Мне она представляется еще более серьезной: Русская Православная Церковь утратила язык общения внутри себя. Другими словами, возникли большие церковные сообщества, которые перестали понимать друг друга и, более того, отказываются от диалога и переходят на обвинения. Самым ярким маркером здесь можно назвать использование во внутрицерковной полемике понятия «либеральный» и его производных — «либерал-православная идеология», «либерал-православное лобби». Если проанализировать эти высказывания, то становится очевидным, что понятие «либеральный» полностью утратило свое содержание. Оно превратилось в симулякр. Это некий знак, который в реальности не имеет ни сопоставимого объекта, ни сопоставимого субъекта. Назвать оппонента «церковным либералом» означает лишь то, что говорящий безусловно его осуждает, видит в нем врага и объявляет ему войну на уничтожение. При этом вторая, та самая «либеральная» сторона, совершенно не собирается ни с кем воевать и просто делает свое дело. В итоге православные христиане в России неожиданным образом оказались разделены внутри себя. Конечно, это не единственная линия разделения.
В дискуссиях о том, как Церковь может и должна отреагировать на эпидемию коронавируса в марте 2020 года, возникла еще одна очевидная линия противостояния, ранее не столь очевидная. С одной стороны, это образованные миряне, монахи и священники, — группа сформировавшаяся в годы церковного возрождения, а с другой — необразованные, для которых православие сводится к фиксированному набору правил, где одному вопросу соответствует только один правильный ответ. По меткому наблюдению богослова Владимира Шмалия, это подспудно существовавший конфликт «городского» и «деревенского» православия впервые проявился столь ярко и очевидно.
Я вижу, что православное благочестие постепенно превращается в самостоятельную религию. Одно дело Православная Церковь — с богословским, историческим, пастырским и церковно-практическим опытом. И совсем другое — простые верующие, которые зажаты в рамках довольно случайного набора мифологем и церковных правил, которые им представляются совершенно незыблемыми, почти святыми. Поэтому разговор о каких-либо переменах — даже если есть угроза эпидемии — свидетельствует только об одном: о слабости веры и никак иначе. «В православии ничего менять нельзя!» Вторая группа предлагает трезво и реалистично посмотреть на сложившиеся церковные практики. Эпидемия — это не только угроза как таковая, это еще и хороший стимул критически оценить сложившиеся практики не с богословской или исторической, а чисто с практической точки зрения. Что не соответствует современным представлениям о гигиене? Как лучше всего защитить прихожан от заражения в храмах? Спокойный и трезвый взгляд позволяет увидеть разные решения возникших проблем.
Но, честно говоря, у меня нет надежды на какое-либо примирение внутри Церкви в ближайшем будущем. Нет никаких инструментов для спокойного диалога. Те механизмы, которые призваны обеспечивать соборность, на самом деле ее имитируют.
Уровень агрессии по отношению к «церковным либералам» очень высокий. Нельзя сказать, что группа — условно назовем ее фундаменталистами — столь уж многочисленна. Но ее голос в публичном пространстве звучит довольно громко.
У вас нет такого ощущения?
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев: Есть. Все очень тревожно. Церковь сегодня в этом смысле мало чем отличается от мирского сообщества. И там разделение идет именно по этой грани, и у нас. И опять-таки, в этом нет ничего нового, так было всегда. Мир относительно монолитен — какой-нибудь XVI век — и Церковь монолитна. Мир обретает какую-никакую свободу — и люди разделяются. И в Церкви то же самое. Можно посмотреть, что из себя представляла наша Церковь в начале прошлого века: были и монархисты, и либералы, черносотенцы, и даже революционеры. Все было: и споры, и противостояние были не шуточными.
Но были и авторитеты — как в одном лагере, так и в другом. И вообще, какие люди были! Многие очень скоро стали мучениками…
А что сейчас? Сейчас все очень обмельчало, потускнело. Никого нет ни там, ни там.
У примирения будет шанс, если хотя бы движение в эту сторону начнется в обществе. Пока этого не видно. Не видно даже, что для общества это проблема. Проблема в другом: как доказать свою правоту и выставить в дураках оппонента — не важно, либерала или патриота. Хотя соглашусь: так называемые либералы более миролюбивы.
Но даже в среде интеллектуалов — много ли тех, кто этим серьезно озабочен? Кто серьезно, как это было не так давно в Германии, пытается понять наше прошлое и примирить его с сегодняшним днем? А без этого понимания трудно идти дальше. Куда бы мы ни шли, гражданскую войну мы несем с собой. Все борются — кто с призраком коммунизма, кто с призраком либерализма. А кто не хочет бороться, уходит или во внутреннюю эмиграцию, или просто покидает страну.
Я, наверняка, многого не знаю, но, кроме работ Николая Эппле, книга которого «Никогда/Снова. В поисках путей проработки советского прошлого в современной России» вот-вот должна выйти, я ничего не могу вспомнить на эту тему. А без этой работы памяти, серьезной интеллектуальной работы, надеяться на примирение не приходится.
Сергей Чапнин: То, о чем я Вас спросил, относится к публичному пространству. Именно здесь происходят основные идеологические битвы. На уровне приходских общин, людей, которые знают друг друга, ситуация гораздо мягче. Мне не приходилось встречаться с примерами жесткого противостояния внутри прихода. Не говорит ли это о том, что публичная сфера в Церкви не только не развита, но и глубоко искажена? Цензура и самоцензура выводит многих священников из пространства спокойного и конструктивного обсуждения. За честно высказанное мнение можно быть сурово наказанным, и страх заставляет молчать или высказываться исключительно в частных разговорах, в узком кругу друзей. Опять можно сказать, что Церковь копирует государство. Но достаточно ли это просто констатировать?
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев: Не уверен, что на уровне приходских общин ситуация мягче. Да, с одной стороны, все подходят к одной Чаше. Более того, как, например, на нашем приходе, все поддерживают добрые отношения друг с другом. Думаю, это не очень частый случай, но мы живем в маленьком городке, что, несомненно, накладывает свой отпечаток. Но грань проведена и ярлыки повешены. Причем я лично потратил немало сил, чтобы понять друг друга, оперируя именно Евангелием. Давайте посмотрим на то, что нас разделяет, с точки зрения нашей веры и Евангелия? Не получается. Нельзя историю мерить нравственным мерилом, говорили мне.
Как говорил философ Мераб Мамардашвили, идеологическое сознание тем и отличатся от любого другого, что в нем нет места фактам, даже если это слово Божие.
Впрочем, мир и добрые человеческие отношения я считаю настоящим достижением. Для меня точно: то, что делает человек, как он относится к другим, важнее его убеждений.
Какой тут может быть путь? Начать что- то делать вместе, а не только ссорить и проклинать друг друга в соцсетях?
Сергей Чапнин: Вернемся к проблеме русского языка в богослужении. Как это ни странно, мне кажется, что здесь ситуация довольно благополучная. Попытки принять церковные документы, регулирующие роль и место церковнославянского языка в богослужении, потерпели неудачу по той же самой причине, о которой я говорил выше. Церковные группировки с разными, порой противоположными, взглядами не смогли договориться. Однако в последние несколько лет русский язык стал входить в богослужение «явочным порядком». Из самых разных мест приходят новости о том, что Апостол в храме читают на русском; крестят, используя чинопоследование в переводе Анри Волохонского. И даже по благословению правящего епископа совершают литургию на русском языке. Хотя последнее пока еще исключение, а не правило. Тем не менее можно говорить, что русский язык в последние годы органично вошел в богослужебную практику. Получается, что проблема языка молитвы решается успешнее, чем проблема языка коммуникации внутри Церкви и Церкви с обществом. Пожалуй, меня это удивляет.
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев: А я, пожалуй, соглашусь. Думаю, что во многом жесткая позиция в середине 90-х несомненно деятельного и талантливого священника и организатора отца Георгия Кочеткова надолго отодвинула внедрение русского языка в богослужебную практику нашей Церкви. Опять же не могу не вспомнить, что отец Александр Мень в свое время просил его с этим не торопиться. Впрочем, и заслуги отца Георгия и его братства в этом деле трудно переоценить.
Но опять же — это маркер, и маркер разделения. Прочитал Апостол по-русски, понятно, — либерал.
Вот чего нам не хватает, так это понимания того, что в нашей Церкви может быть много разных граней: «в главном единство, в спорном свобода, во всем любовь».
В Церкви может быть и уже есть много языков, стоит просто проехать по православным приходам Европы. Много художественных стилей — чтобы это понять, можно просто походить по храмам Москвы и Питера. Может быть много разных людей, по-разному оценивающих наше прошлое и настоящее. И так далее.
Но все это возможно, если мы сходимся в главном. И здесь мы неминуемо возвращаемся к евангелизации. Вроде бы, в отличие от лесковского крестьянина, мы уже не только крышку Евангелия целуем. Все поголовно грамотные и давно его прочитали. Осталось главное — поставить Евангелие во главу угла своего мировоззрения. Именно им мерить все — и патриотизм, и либерализм. Но мерить свою жизнь и свое мировоззрение, а не брата своего.
Фото Анны Гальпериной для проекта «Поп+кот», 2015.
От Редакции. Это диалог был записан летом-осенью 2019 года и дополнен весной 2020.
Эссе опубликовано в альманахе современной христианской культуры «Дары», № 6, 2020, с. 151-157. >>> (Мы будем признательны, если вы закажите альманах и поддержите наше издание)