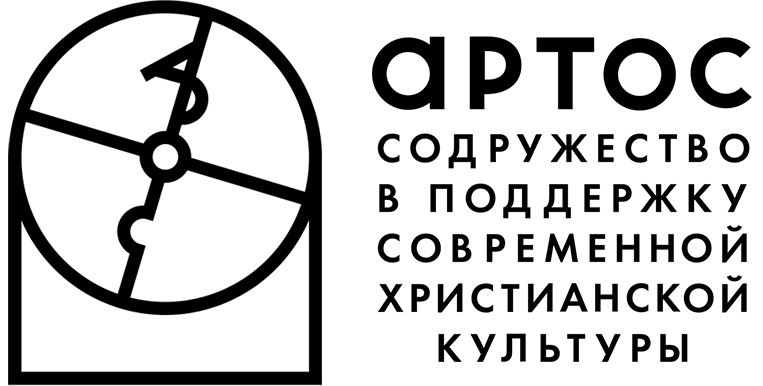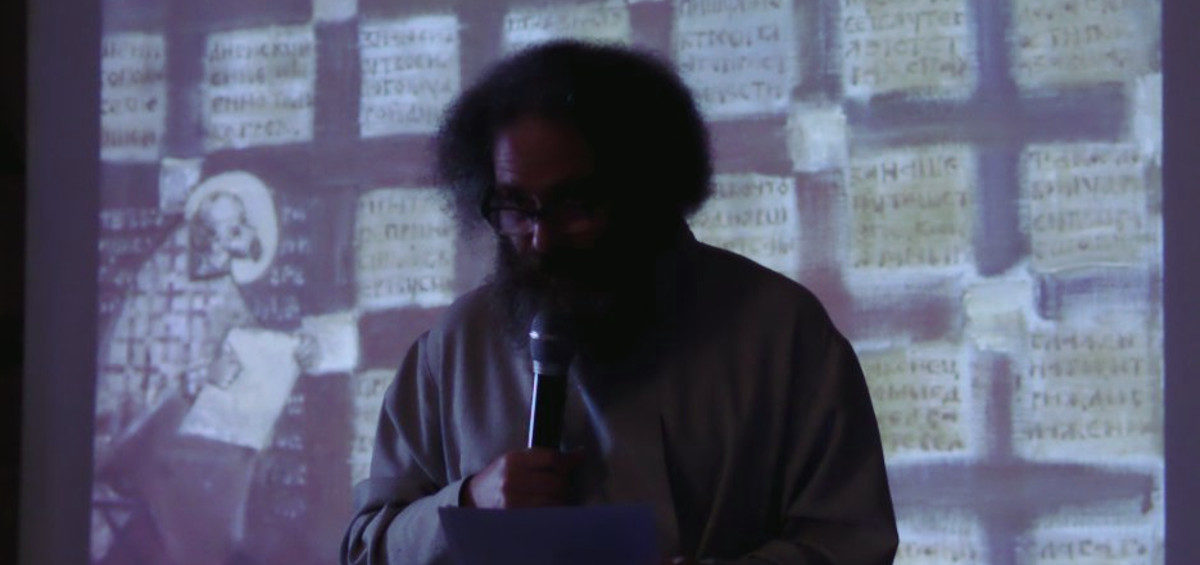Я познакомился с Еленой Черкасовой четверть века назад. Тогда она шила рясы и рисовала. Но совсем скоро, в середине 90-х, немалая часть московского духовенства, которую обшивала Лена, лишилась своей швеи: она перестала шить и стала только рисовать, причем совершенно по-новому. Вместо изображения нежно-зеленых скорбежевских косогоров и церковной изгороди залитского храма появились большие яркие полотна на библейские темы. Те, кто посещал Лену тогда, могли видеть эти новые работы и воспринимали их с огромным энтузиазмом и радостью.
Смотреть картины Елены Черкасовой в пинакотеке «Артоса» >>
Ниже я попытаюсь сказать о художественном достоинстве и об изобразительном языке этих первых картин, которые на годы вперед определили особую, узнаваемую творческую манеру, снискавшую за короткое время большое число почитателей. Но тогда первое, что нас восхищало и приводило в восторг, выражалось в словах: новое, живое, смелое, свое! Прежде всякой рефлексии был душевный отклик на удивительное событие, которое осуществлялось совсем рядом с нами, среди нас.
В конце 80-х — начале 90-х годов мы жили христианской общиной. Думаю, что сейчас, когда мы не потеряли друг друга из виду, но все же значительно удалились, это осознается гораздо острее, чем тогда. А тогда это было нашей повседневной реальностью — совершенно новой, счастливой , которую мы нашли, открыли, в которую мы вошли и которая наполнила нашу жизнь, заняв в ней главное место. Сбегая от всех неправд и несвобод советского и постсоветского пространства, мы собирались в маленькой, тесной церкви, где было Слово Божие, где был наш батюшка, где мы встречали новые лица единомышленников по вере, которые с первого знакомства становились ближе родственников.
Мы жили в сплоченном дружеском общении, переживали и сочувствовали всем жизненным обстоятельствам наших братьев и сестер и молились друг за друга: ежедневная кафизма со списком имен и сугубые молитвы за болящих, скорбящих, недугующих, непраздных, путешествующих, заблудших и т.д. Удаляясь от «века сего», мы осваивали церковное правило, по-новому регламентирующее нашу жизнь: утренние и вечерние молитвы, поклоны, чтение Писания, посты, заговения, разговения, подготовку к исповеди и причащению, участие в богослужении, семейную жизнь и воспитание детей. Наши усилия и внимание были направлены на восстановление традиций — охаянных, забытых, порушенных, на которых веками утверждалось православие. В те дни слова «канон» и «каноничность» занимали едва ли не главное место для определения самооценки и оценки окружающих нас явлений (в том числе и явлений культуры — пения, изобразительного искусства и т.п.). Но, несмотря на это, уже тогда постепенно, но все отчетливее мы понимали, что традиция не сводится только к правилу, что она — не начетничество, не бесконечное воспроизведение устоявшихся форм, не самоцель. К слову «традиция» все чаще прибавлялось слово «живая», и мы, быть может, и не давая себе в том отчета, желали именно этой живой традиции, способной к развитию, а значит, и к рождению новых, но не оторванных от нее форм.
Важно сказать об этом, потому что, по моему глубокому убеждению, искусство Елены Черкасовой зародилось в Церкви, конкретнее — в нашей общине 90-х. Без этого невозможно понять исходной интенции ее творчества. Потом будут выставки, галереи, критики, искусствоведы, но первые отклики, первые слова удивления, радости, одобрения принадлежали (и полагаю, что это было очень важно для начинающей художницы) ее духовному наставнику отцу Сергию Романову и тем, кто объединились вокруг него. А для нас все новые и новые полотна Лены (например, «Великий канон», «Смертный час», «На Благовещение выпускают птичек» — обобщенный портрет прихода) были явлением творческой свободы, свидетельством ожившей традиции и, повторюсь, предметом общей радости.
Говоря о происхождении работ Елены Черкасовой из церковной традиции, я нисколько не желаю уменьшить ее собственных заслуг. Безусловно, нужен талант (который всегда есть тайна); безусловно, необходимы художественные навыки (я ничего не знаю о том, где, у кого и когда она их получила), но и в отношении к традиции Лену отличала особая фундаментальность и широта охвата, которые в ней сочетались с внутренней строгостью и порядком. С той же добросовестностью, с которой она шила лучшие в Москве рясы, она относилась к текстам молитв, канонов, библейским книгам, житиям святых, «Лествице», уставу церковных служб. Она в одиночку могла “скроить”, вычитать и пропеть многочасовые и сложные службы первой седмицы Великого поста, что, собственно, и делала в начале 90-х в Кашире, помогая отцу Алексию Уминскому на вновь открытом приходе.
Из этих библейских, житийных, богослужебных книг и родилась новая, я бы назвал ее — «книжная» живопись Елены Черкасовой. Не иллюстрация, а именно искусство как вторая книга (перефразируя известное выражение «искусство — вторая природа»), причем язык этой книги — церковнославянский, и это принципиально важно. Есть удивительно точная корреляция между звучанием церковнославянского языка, его архаической отстраненностью, торжественной приподнятостью, значительностью — и общей художественной тональностью Лениных работ: глядя на ее картины, вы видите не деревья, а «древа»; не осла, а «ослятю»; не руки, а «руцы». В изображении дождя (см. «Дождь в Троицын день») природная стихия заслоняется стихией библейского слова («призываеши Ты воды, и проливаеши их по лицу всея земли») и превращается в поток благодати и силы Божией, «отгоняющей полки чуждих».
Но не только звучание, сама графическая плоть церковнославянского языка настолько дорога художнице, что она постоянно заполняет пространство своих картин славянскими буквами, которые складываются то в отдельные слова, то в строчки или в целые ковры орнаментально-нарядной кириллицы. При отсутствии иллюзии объема, т.е. линейной и световоздушной перспективы, именно библейские фразы, тексты из псалмов, тропарей, кондаков, выписанные на холсте, моделируют то живописно-словесное пространство, из которого выступают и в котором живут герои картин, не порывая, таким образом, с письмом и книгой.
Чтобы понять, как выстраивается смысловая перспектива «живописно-словесного пространства», обратимся к картине, которая называется «Птенцы врановы».
Вот две большие черные птицы кормят своих птенцов. И название, и изображение подсказывают нам известный стих из 146-го псалма, где говорится, что Господь подает пищу скоту и даже птенцам ворона, призывающим Его. Но общее настроение картины не соответствует благодушию псалма. Ощущение тревоги, почти страха охватывает при виде рептилиеобразных существ, сочетания черного и красного цветов, а главное — самих птенцов, чьи клювы и перья больше походят на торчащие во все стороны шипы или на моток колючей проволоки. Присматриваемся к тексту, покрывающему все свободное пространство, и обнаруживаем, что вместо ожидаемых слов из псалма на картине выписаны слова из Евангелия: Смотрите вран, яко не сеют, ни жнут, им же несть сокровища, ни житницы, и Бог питает их. Кольми паче вы есте лучше птиц? (Лк 12, 24) Оказывается, эта картина не про птенцов, а про нас. Она обращена к нам: в чем исключительность человека, и как далеко может простираться забота Божия о нас? Последняя фраза «Кольми паче вы есте лучше птиц?» отличается большим размером шрифта, но главное — она прописана кроваво-красным цветом: поставляя человека выше всех существ, Господь готов питать нас Своей Плотью ломимою и Кровью, излитою на Кресте. Смысловой круг замкнулся. И тревожное настроение, и шипы, и даже ярко-красные облатки, которыми птицы кормят своих птенцов, — все соединилось в Кресте. Нам кажется, что картина про птиц, а она про нас. Мы думаем, что она про нас, а она — про непостижимую любовь Божию, которая раскрывается на Кресте. Или, может быть, про все сразу?
У картины есть две стороны — живописная (собственно изображение) и словесная (цитата из Евангелия). Взятые по отдельности, они ничего не говорят ни о Распятии, ни о Крестной жертве, ни о Страстной пятнице, но в живописно-словесной перспективе, в том смысловом пространстве, которое образуется ими (между ними, из них), неизбежно возникает идея Креста. И тогда мы начинаем замечать, что в «Птенцах врановых» изображено также и дерево с двумя «воздетыми» ветвями, охватывающими все полотно.
«Елена Черкасова — интересный художник», — я много раз слышал эту фразу. Но я бы добавил: интересный и умный, с той особенностью, что пространство ее ума образовано на просторах Книги. Апофеоз книжной культуры Лены заметнее всего, на мой взгляд, в картине «Септуагинта». На ней изображены толковники, приглашенные Птолемеем II из Иерусалима в Александрию для создания перевода Ветхого Завета на греческий язык. Но на картине вы видите не книжников, а скорее музыкантов, оркестровую яму, где все охвачены единой мелодией, подчинены единому воодушевляющему ритму. Их «руцы» водят по хартиям, но лица обращены вверх и вперед, откуда приходит мелодия Слова и откуда дождем на них сыплются небольшие квадраты книжных страниц. Этот поток белых неровных квадратиков контрастирует с такими же по цвету, но большими, статичными прямоугольниками, из которых складывается фон этого необычного скриптория. А между теми и другими — сутулые силуэты писцов-музыкантов. Противопоставление ветхого, древнего, каноничного (статичные прямоугольники) и нарождающегося нового (каскад книжных страниц), радость от письма и Писания, вдохновенный порыв к Слову и прорыв Самого Слова — все эти ноты звучат и наполняют «Септуагинту», находя свой отклик у всякого, кто прилежит к Книге.
Не изобразить, а запечатлеть идею, подвести, указать направление и оставить зрителя наедине с ней, дать зазвучать и заговорить самой идее — это та грань, за которой начинается творчество как тайна и за которую художница ведет нас в своих лучших работах. А овладев главным, можно без ущерба обратиться и к нарративу как к возможности драматизации и оживления темы. В правом нижнем углу «Септуагинты» рассказывается история Симеона Богоприимца: в общем звучании оркестра толковников произошла сбивка — Симеон усомнился в мессианском пророчестве о рождении от Девы, но тут же был наставлен явившимся Ангелом, который пообещал, что тот увидит исполнение этих слов. Запечатлеть и показать в красках мир слов, не растеряв их одухотворенности, — ни это ли направляет кисть художницы Елены Черкасовой?
«Септуагинта» была подарена Леной и Николаем Филимоновым в Библейский кабинет Московской духовной академии, где картина находится по сей день. Читая лекции о создании перевода Семидесяти, я посматриваю на нее и думаю, что вряд ли нашлось бы лучшее место для этой картины: среди книжных шкафов, над партами, за которыми склонились студенты, она возвышается, как духовный манифест библейской книжности.
Не могу не упомянуть другую картину Елены Черкасовой — «Письма к Олимпиаде», раскрывающую еще одну грань понимания слова художницей.
Сохранилось 17 писем святителя Иоанна Златоуста к диаконисе Олимпиаде. Из этих писем, как из кирпичей, Черкасова выстраивает стену — ровную, глухую, абсолютно статичную, заполняющую собой все пространство холста. Фигуры она «заточила» в противоположные углы полотна. Те, кто знаком с историей переписки, знает, что она велась в условиях непрестанных бедствий. Изгнанные из Царьграда, обреченные на ссылку (Иоанн Златоуст в Армении, а затем в районе современной Абхазии, а Олимпиада в Никомидии), они, как говорится в одном из писем, «меняли места за местами, были отовсюду гонимы, терпели лишение имущества, были влачимы по судилищам, подвергались терзаниям со стороны воинов, терпели страдания от получивших бесчисленные благодеяния, были оскорбляемы от слуг и от свободных» (см. письмо 16). Страх перед собратьями: «Я никого не боюсь так, как епископов, исключая немногих» (письмо 14). Страх перед иноплеменниками: «…Я боялся варваров, дрожал и ожидал попасть в их руки» (письмо 14). Гнетущее уныние, печаль, боль, доходящее до безумия отчаянье Олимпиады, о которых мы узнаем почти из каждого письма святителя. Но над всем возвышается слово евангельской любви, заботы, верности, утешения и долга: «Хотя бы все полетели вниз головой, ты исполняй свой долг!» (письмо 14). Все порушено, все отнято, осталось лишь слово, и оно, как несокрушимая стена, скрепленная крестовидными швами, заполняет собой все пространство картины. Слово — камень, стена, но одновременно и облачение Златоуста (см. параллель между орнаментом на фелони святителя и общим рисунком картины), которым он покрывает весь мир, всех и вся: «Я уже послал тебе три длинных письма… особенно два из них… способны утешить всякого унывающего, всякого соблазняющегося и привести к полной радости» (письмо 14).
В заключение хотелось бы сказать о том, что было в самом начале. А вначале была «Юность Давида» — одна из первых картин, после которой, если мне не изменяет память, Лена оставила шитье и полностью предалась живописи. Кажется, тогда Давид был ее любимым героем. Кроме «Юности Давида», были «Пятидесятый псалом», «Давид и Ионафан» и наверняка что-то еще, о чем я теперь уже не помню. Это позволило реализовать необычный по тем временам проект: в конце 90-х на одной из стен Библейского кабинета Духовной академии был выставлен огромный образ царя Давида работы московского иконописца Анатолия Этенейера, а вокруг иконы разместился весь корпус работ Елены Черкасовой, посвященных Давиду.
«Юность Давида» — из тех работ, которые западают в душу, заставляют волноваться, а затем превращаются во внутреннее достояние, как хорошая книга или заученное стихотворение. Это внутреннее соприсутствие обрело, к моей радости, новое осязаемое состояние в виде обложки к нашей совместной книге «Мемра» (издана в Москве в 2006 г.). Образ Давида, запечатленный в душе и на книжной обложке, с годами не потерял для меня своей трогательности. Но только теперь, приступая к этому эссе, я поставил себе вопрос: чем же достигается выразительность и убедительность этого лаконичного по цвету и по рисунку изображения?
Первое, что я должен констатировать: все в образе Давида не просто не соответствует, а нарочито противоречит тому, о чем сообщает нам Библия. В Священном Писании отсутствуют портреты, ничего неизвестно о том, как выглядели Авраам, Моисей, Исайя, Мария, Иисус, апостолы. В определенном смысле Давид является исключением. Дважды (1 Цар 16, 12, 18) дается краткий словесный портрет юного Давида. Нам сообщается, что «он был рыж» (белокур — в Синодальном переводе), но на картине Черкасовой он не белый, не рыжий, а черный как смоль. Давид был «храбрый, воинственный, видный собой», а на картине он изображен сутулым, короткошеим, с худыми, как две хворостинки, руками. Это какой-то совсем другой, неисторический Давид, по крайней мере, не Давид исторических хроник книг Царств. Черкасова пишет певца, стихотворца, создает портрет Давида Псалтири — книги гимнов и молитв. Вот почему он сутул, вот почему он закинул по-мандельштамовски голову вверх, вот почему у него такие хрупкие, тонкие руки. Слово, которое, как мы видели, может быть нерушимой стеной, есть и самая тонкая, таинственная реальность.
Но и здесь не все просто: если это Давид Псалтири, то почему он без псалтири в руках? Вместо щипкового многострунного инструмента (евр. кинор, греч. псалтерион, славян. псалтирь) он держит в руках двуствольную свирель. Однажды Лена указала мне на один литературный нонсенс: в стихотворении И. Бродского «Сретение» Младенец лежит на «раменах» Марии, т.е., в строгом соответствии со значением славянского слова, на плечах. Но даже если не вспоминать про эту Ленину ремарку, свидетельствующую о ее наблюдательности, то и так понятно, что замена псалтири на свирель не могла быть случайной. Свирель тоньше, лаконичнее, острее, но главное — приставленная к губам, она превращается в образ голоса, гортани, песни. «Язык мой — трость писца скорописца» — говорит Давид в одном из псалмов. «Язык мой — трость свирели» — как бы вторит ему герой «Юности Давида».
Я написал «свирель, приставленная к губам», но это не совсем так. Есть одна странная особенность в изображениях Елены Черкасовой: все персонажи ее работ не имею ни рта, ни губ. У мужчин они либо спрятаны под усами, за бородой, а у детей, женщин и ангелов просто не изображаются. Уста — орган речи — отсутствуют, они немы. Но это немота книги, способная ожить множеством мыслей и слов. Это та тишина или, лучше сказать, знак тишины, из которой рождаются знаки слов: жесты, позы, поворот головы, скошенный взгляд, колористические отношения и т.д. — арсенал изобразительных средств, особый и привлекающий своей точностью язык художницы. У этого языка есть своя правда — убедительность образа. И эта правда заставила художницу предпочесть щипковой псалтири духовую свирель, которая становится образом обретения слова, пришедшего из тишины, рожденного из слуха; слова, которое поэт с запрокинутой головой держит на самых кончиках пальцев своих хрупких рук; слова легкого, острого и прямого, как трость, т.е. настолько вдохновенного и точного, что оно оживает и обретает самостоятельность (присмотритесь — на картине свирель изображена на значительном расстоянии от лица Давида). Это слово звучит и покрывает собою все стадо овец. И пока оно звучит, они мирно пасутся на своем лугу.
Поразительное умение запечатлеть в красках различные оттенки слова — именно это я имею в виду, говоря о «книжной» живописи Елены Черкасовой.
Протоиерей Леонид Грилихес (Брюссель, Бельгия)
Смотреть картины Елены Черкасовой в пинакотеке «Артоса» >>
Статья опубликована в альманахе современной христианской культуры «Дары», № 2, 2016, с. 96-105.
Купить альманах современной христианской культуры «Дары» № 3, 2017 онлайн >>